
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ГЛАВА 9. Я проверяю отбой раз в неделю, а иногда и два
|
|
Я проверяю отбой раз в неделю, а иногда и два. Воспитатели детей уложат, а потом я прохожу по палатам, смотрю — как и что.
Малыши укладываются быстро. Идёшь в девять часов — уже многие спят. Тяжело малышам. И старшим тяжело.
Я ставлю себя на их место, и думаю о том, что было бы мне тяжелее всего — в такой вот, интернатовской жизни.
Тяжелее всего, для меня, было бы — отсутствие одиночества.
Вместе со многими просыпаться, вместе со многими укладываться спать. Вместе — учиться, вместе — делать уроки.
Вместе — есть, и вместе, извините, ходить в туалет. Ведь в спальнях нет даже отдельных кабинок, а в туалетах — по два-три унитаза. И двери, как правило, на распашку.
Есть от чего стать неврастеником, согласитесь. Это ведь Не пионерский лагерь, что на двадцать четыре дня. Это ведь, для многих — из года в год. Это способ их жизни, способ существования. Здесь — надо выжить. Вернее, выживать. Час за часом.
Поэтому, у меня, изолятор всегда открыт. Если кто-то из детей приходит в медпункт и я вижу, что ко мне пришли просто, потому что нет сил, я всегда укладываю такого человека в изолятор. Без температуры, без кашля. Без всего.
Укладываю — на день, на два. Или на час, на два. Кому сколько нужно, чтобы выспаться, или просто полежать в одиночестве.
Сначала воспитатели и учителя не понимали, что происходит, и даже пытались ругаться со мной. Мол, я детей балую и они — никакие не больные.
Но я объяснила сотрудникам свою позицию. Объяснила очень доходчиво. Я сказала, что в изоляторе — единственный туалет, где один унитаз. Единственный туалет, в котором чисто, и который — на одного. И единственный, где можно закрыться на щеколду.
Нет, я не злоупотребляю. Я уже почти научилась определять разницу между «сачкованием» и астеническим синдромом.
Почти, почти. Конечно, и дурят меня. Дети хитрят, и пытаются спрятаться: от английского, от математики, от труда, от воспитателя, а иногда — и друг от друга.
Всё, пришла в спальни первого-второго классов. Тут воспитатели хорошие. И, как ни странно, самые молодые.
В спальнях: на стенах, на полочках — всякие поделки, из самых, простите, ерундовых материалов. Картины, например, из крышек конфетных коробок. Рисунки. Любовью скрытая нищета, в чистом виде.
Господи, помилуй! Малыши спят.
— Ну, как? — спрашиваю я шёпотом.
— Пошли, — так же шёпотом отвечает воспитатель малышей.
Она открывает двери во вторую палату. Танька Никитина, как всегда, спит под кроватью, укутавшись в одеяло.
Неистребимая привычка, почти рефлекс. Уже год её будим, и перекладываем на кровать. Или не будим — так перекладываем.
Раньше это было каждую ночь, и даже днём. Теперь — реже, но ещё случается. Невроз. Ребёнок привык забиваться в угол.
Мы перекладываем Таньку, в очередной раз. Я перекрестила маленькую Таньку, которая даже не проснулась, когда мы её переложили.
— Клеёнки у всех есть? Новенькая у вас — тоже с энурезом.
— Есть, положили. Новенькая писается по два раза на ночь. Будить её не успевают.
Тех, кто писается, ночью поднимает дежурная нянечка.
К концу года их, энурезников, осталось уже поменьше. Дети вошли в режим, привыкли. Да я их и подлечила, таблетки давала. А в начале года — страх, сколько их было. Чуть ли не половина малышей, и процентов двадцать среди старших. Невроз.
Бедные дети. Клеёнок не хватало, и белья не хватало, чтобы всем перестелить с утра. Сушили простыни на батареях.
Дети, дети. Что же мы, взрослые, делаем с вами? Кого растим?
Вот они, первый-второй класс. Половина — дети из неблагополучных семей, половина — сироты. Еле-еле читают, плохо пишут. Не выдерживают сорока минут урока, кричат, грубят, плачут. Матерятся. У половины — что-нибудь дергается: глаз, голова, заикание. Пальцы с грязными и обкусанными до крови ногтями. Глисты. Энурез. Постоянные насморок и кашель.
Нет, нет. Не всё ещё так страшно... Мы ещё слушаем сказки, мы ещё плачем, когда с главным героем что-нибудь случается, мы ещё верим, что добро побеждает зло. Мы ещё поём песни хором! У нас ещё есть нормальные, молодые воспитатели!
И нет-нет, а блеснёт на груди нательный крестик, призывая небо, и взывая к нам, взрослым.
Бравы ребятушки, всё-таки скажите вы мне, где же ваши мамки? Матери ваши — где? Где же ваши отцы? И кто будут ваши жёны, скажите вы мне, и каких внуков вы нам родите?
Господи, помилуй нас, грешных. Вот оно, наказание Господне, поражающее род наш, наших детей. А мы? Те, кто стоит рядом? Что же мы, слепые, что ли?
Господи, помилуй нас, и прости нас. Прости...
Я попрощалась с воспитателем и поднялась к старшим. Сначала — к шестым-седьмым. Там шум, суета. На девичьей половине моются, плескаются. Горячей воды нет, горячую воду несут из столовой, в больших тяжёлых кастрюлях.
В этом нет ничего хорошего. Можно ошпариться, и такой случай у нас уже был. Но приходится соглашаться с тем, что есть. Мыться-то надо.
Плохо выстиранное бельишко девчонок развешено на верёвках, прямо тут, в умывальной комнате.
— Девчонки, заканчивайте плескаться!
— Всё, всё, Наталья Петровна.
Воспитатель седьмого класса, Татьяна Васильевна — та, что приносила мне тарелки с пловом, встречает меня на входе в мальчишескую половину.
— Наталья! Иди, посмотри! Новенький опять улёгся в одежде. Еле ботинки снял.
— Он, наверно, дома у себя не раздевался.
— Ты лучше спроси, был ли у него дом? — ответила Татьяна.
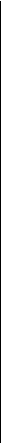
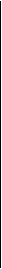
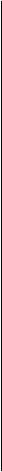 Этот новенький — тоже сирота, но сирота — недавний, только из распределителя.
Этот новенький — тоже сирота, но сирота — недавний, только из распределителя.
— Как его зовут, забыла. Саша?
— Саша.
Новенький лежит на кровати, закрывшись с головой.
— Саша! Сашка, послушай...
Я села к нему на кровать и попыталась потянуть одеяло. Одеяло сначала не поддавалось, потом Сашка сам ослабил напор и чуть-чуть откинул угол одеяла от лица.
— Сашка! Ты бы хоть свитер снял... И брюки... Ты же в этих брюках завтра в школу пойдёшь. Помнёшь ведь.
Сашка молчит. Лицо — красное, насупленное.
— Ещё огрызается! Кричит на меня, что я его раздеваться заставляю! — воспитатель пытается помочь мне, но, пожалуй, только мешает.
— Вы идите, Татьяна Васильевна, укладывайте остальных. А я с Сашей посижу.
Некоторое время я молча сижу на кровати этого Сашки. Что заставляет тебя прятаться, большой мальчик? Страх, страх. Страх, опять страх...
Потом я делаю новую попытку.
— Саня, но ты же не можешь всегда быть в одежде. Её всё равно придётся снять, чтобы постирать.
Сашка молчит.
— Саша, ты пойми. Никто не придёт ночью, никто не будет тебя бить. И издеваться над тобой — не будет никто.
Лицо Сашки чуть-чуть оживает. Значит, всё правильно.
— Посмотри, кто в палате! Такие же ребята, как ты. Хорошие ребята. Учти, у нас не издеваются. Пусть только кто попробует, сразу из интерната вылетит. Вот, посмотри — вот Коля, он тут с первого класса учится, а уже — седьмой. Коля у нас — человек надёжный.
Это правда. Колька — надёжный человечек. Он тоже сирота, сирота официальный, и если можно так выразиться, благополучный. У него есть старенькая бабушка, которая его любит, и живёт здесь, в городе. Колька к ней ходит на выходные и на каникулах у неё живёт.
— Коль, ты бы помог Сашке, пока он не привыкнет...
— Да я ему тоже говорю, чтобы он не дурил, а он не верит, — отзывается Колька со своей кровати.
— Поверит, поверит. Саня, знаешь что? Давай, пока ты не привык, снимай сегодня только свитер и брюки, чтобы не помять. Рубашку оставляй. Ладно?
— Ладно... — с трудом произносит Сашка.
Он садится на кровати, снимает свитер. Лицо его покрывается густыми, красными пятнами.
Потом он снимает брюки и бросает их на тумбочку. Падает в кровать и опять укрывается с головой.
Я беру брюки, складываю, вешаю на спинку кровати.
— Ну, всё, мальчишки, пока. Спокойной ночи. Учтите, я никуда не спешу. Ещё два часа тут буду гулять. Так что, не шуметь!
— Спокойной ночи! — отвечают мне несколько голосов. Кажется, и Сашкин — тоже. Ничего, привыкнет. Привыкнет.
У нас хороший интернат. Насколько можем, мы им издеваться друг над другом не даём. Директор наша строго за этим следит. И воспитатели следят за такими случаями.
Да только трудное это дело. Жестокая среда. Всё равно — издеваются, бьют, насмехаются и плюются. И чего только не делают...
Но, не смотря на это, у нас — действительно хороший интернат. Бывает, дети из других интернатов (те, которых к нам переводят), рассказывают страшные вещи.
О том, как дети издеваются друг рад другом, и как старшие издеваются над младшими, и, в довершение всего, как воспитатели издеваются над детьми...
Над этим Сашкой издевались. Явно, издевались.
Страх... Страх у него, страх. Пока пройдёт... Да и пройдёт ли совсем.
Дай-то Бог. Мальчик неплохой, кажется. Пошёл на контакт.
Я прощаюсь с шестыми и седьмыми классами и поднимаюсь на третий этаж, к восьмым-девятым.
— Наталья, ты посмотри, что это за безобразие! — встречает меня воспитатель девятого, Екатерина Алексеевна.
Екатерина Алексеевна — женщина пенсионного возраста. У нас, вообще, большая часть воспитателей — пенсионного возраста. А кто молодой пойдёт, в наше время, на такую работу, да ещё с такой зарплатой!
Екатерина Алексеевна возмущена.
— Наталья, ты посмотри! Ни один бачок в туалете не смывает!
Туалет на три унитаза. В туалете вонь, лужи, грязь. Пахнет ещё и куревом. Дёргаю за две оставшиеся верёвки. Без результата. Ну и вонь!
— Ну что это за изверги, ты мне скажи? — продолжает воспитатель. — Ведь утром — один ещё смывал!
— Надо сказать на пятиминутке. Один — это тоже не дело. Надо починить унитазы как следует, в конце концов. Пока мы не заболели от этой грязи.
— Да сколько раз я уже говорила! И в тетрадку писала! — Екатерина Алексеевна разводит руками. — Да ты же знаешь завхоза нашего. «Ничего нет, деточка, денег нет, деточка!» — передразнила она завхоза.
Довольно похоже, я даже рассмеялась.
— Это точно. Вечно — ничего нет. Это — к директору надо.
— А директор — что тебе скажет? В смету, на будущий год? Пока не утонем в этом г..., до тех пор и не сделаем ничего.
Меня воспитатели не боятся. Мне можно высказывать всё. Можно возмущаться, можно жаловаться, в открытую.
Директора у нас все боятся, директора! Попробовала бы она — так же сказать директору! А завхоз наш, как и кладовщик, находятся под негласным директорским покровительством. Завхоз, вообще, дальняя родственница нашего директора.
Наступать на завхоза — значит, наступать на директора.
Даже такая достойная женщина, как Екатерина Алексеевна, и та подумает, прежде чем наступать на завхоза. И далее...
— Успокойтесь, Екатерина Алексеевна. Ладно, успокойтесь. Я директору скажу, прямо завтра. Пробьем. А то, и правда, пока этого дерьма не увидишь — не поймёшь, как это...
— Так и живём — в дерьме по уши.
— Да ладно. Выгребем.
— Ты — молодая, может, и выгребешь. А я...
Я не успела ответить.
Подошла Ангелина Степановна, воспитатель восьмого «Б».
— Как там Протока?
— Жив Протока, жив. Спит, сном младенца.
— Да уж, младенца. Перелом есть?
— Не волнуйтесь, Ангелина Степановна!
— Да как не волноваться? Ведь сделают виноватой — не отмоешься. Да разве я могу уследить за всеми? Да ещё за таким... — она подыскивала слово, — за таким идиотом?
— Да ладно тебе! — вступила Екатерина Алексеевна. — Ты не виновата, ты в столовой была...
— Поди потом, докажи!
— Ладно, пойду я, — я вдруг почувствовала к этим усталым женщинам, такую жалость... такую нежность, что мне аж сдавило горло. Я повернулась к выходу.
— Пойду я, ещё раз на вашего младенца посмотрю. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Наталья, — ответили мне.
Я заглянула в изолятор ещё раз, перед самым уходом. Тоха, мой брат, спал сном младенца.
Date: 2015-07-23; view: 402; Нарушение авторских прав