
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ГЛАВА 1. Ох, как есть хочется! Обед был уже так давно, что испарился без следа
|
|
Ох, как есть хочется! Обед был уже так давно, что испарился без следа.
Иду домой совершенно голодная.
Можно было бы, конечно, зайти на наш пищеблок ещё раз. Вечерком, перед уходом. Посидеть за столиком для «персон», подождать, пока повариха принесёт чаю. Настоящего интернатского чаю. Специально заваренного, горячего. Наслащённого так, что противно его в рот брать. Принесёт к чаю — несколько толстых ломтей батона, поставит сливочного масла, нарезанного кубиками. А, может, и сырку положит. Или колбаски. Ешь — не хочу.
Можно было, можно. Врачу интерната — положено пробу снимать. А если очень хочется, то можно снимать эту пробу... хоть шесть раз на день!
Никто слова бы не сказал, если бы я пришла. Да только я уже не могу...
Если бы всё было так, как раньше! Если бы не знать ничего! Спокойно пить чай, есть свой батон, и всё, что положено к батону. Как я это и делала много раз, а может, и сотни раз.
Последнее время — не могу. Если бы я не знала, сколько они воруют... Как воруют, кто ворует... Ступаю теперь на пищеблок, как на минное поле. Где рожки торчат, где растяжки... Того и гляди — взорвётся.
Возможно, я не всё знаю. Скорее всего, не всё. Но порции на столах говорят сами за себя. Кто бы видел эти порции на столах... А ведь у нас в интернате — сироты! Дети у нас...
А раньше? Почему тебе раньше не было так противно? Сколько лет ты отработала, и ничего! И ела всегда столько, сколько хотела, и брала столько, сколько давали. Брала, брала.
Вот что ужасно — брала, и не мало. А если было мало — роптала, что мало.
А что? Всегда и везде так заведено, что «положено» врачу интерната. Положена из кладовой дань. Чтобы врач была своя и на всё глаза закрывала.
И я — тоже так жила. С закрытыми глазами. И брала свою дань.
Такая дань «положена» не только врачу, но и всей интернатской «верхушке». Завхозу, например, или бухгалтеру. Ну, и директору, конечно.
Директору — тому, уж я и представить себе не могу, сколько «положено».
Если мне, врачу, было столько «положено», что на машине привозили, то сколько «положено» директору — можно только предположить.
Правда, на машине возили не долго. Времена изменились. Продуктов становилось всё меньше и меньше. В смысле — тех продуктов, которые отпускали с базы на интернат. Наступили сложные времена, и нормы нам стали урезать.
И доля моя, соответственно, становилась меньше. Но, всё же, эта доля была достаточно приличной, чтобы можно было жить, не думая о хлебе с маслом.
А теперь вот — я иду домой голодная. Что произошло со мной? Почему перестала брать?
А потому, что — «не укради!» Заповедь.
Я стала верующей, вот что произошло со мной. Как-то потихоньку вызревала во мне вера.
Долго я определялась. Кто я, что я, зачем я... Долго думала. Наверное, можно было бы думать и побыстрее. Всё я искала, в чём смысл жизни. Сколько себя помню, с самого детства.
А вот верующей стала, когда уже за тридцать перевалило. Вернее даже будет сказать, что не за тридцать перевалило, а к сорока приблизилось.
Трудно было решиться в церковь прийти, особенно в первый раз. Ведь взрослая уже. И всё-таки я крестилась.
А вот теперь иду и думаю: «Как же я могла? Как я могла брать эту дань, эти интернатские продукты?» Как будто пелена спала с глаз, и стало мучительно стыдно прежней себя. Той, «берущей», себя...
Сколько, как я крестилась? Скоро год? Пока разбиралась, пока решалась...
Месяца три, как перестала брать. Не велик срок.
Так вот я и шла с работы, в таких вот невесёлых рассуждениях. Поздняя весна, скоро конец учебного года... Тепло, воздух чист и свеж. Почки, первые листочки. Как же хорошо кругом! Как будто нет на свете ни интерната, ни пищеблока... Благодать!
Уже вечерело, и кое-где мерцали огоньки. Не улице было совсем немного людей.
В ларьке, на углу, мне надо было купить сахару.
После того, как я перестала продукты из интерната домой приносить, в семье стало жить труднее. Материально, конечно. Масла нет, мяса нет. Раньше приносила, а теперь — необходимо стало всё это покупать. Шпроты, сгущёнка... Сыновья пострадали. От отсутствия сгущёнки.
Сахар — тоже раньше из интерната носила. Теперь вот — покупаю.
Я подошла к ларьку. На прилавке стояла всякая продуктовая мелочь. Пакеты макарон, сахара, печенья. Но главным было не это.
Главное — это был, ничем не прикрытый, лоток с жирной, лоснящейся, призывно пахнущей копчёной селёдкой.
Я была единственным покупателем.
Ух ты! В желудке засосало. В голове даже помутилось! Мне показалось, что ещё немного, и я потеряю сознание.
Как мне хотелось селёдки! Боже мой, как я хотела этой селёдки!
— Пакет сахару, — сказала я продавщице и протянула ей наш семейный бюджет. На неделю. Одной бумажкой.
— Ой, — сказала продавщица, — нету сдачи. Постойте, пожалуйста, я сбегаю в магазин, разменяю.
Продавщица убежала, и я осталась одна, наедине с лотком, полным селёдки. Я проглотила слюну, и услышала внутри себя явственный, уверенный в себе голос.
«Укради селёдку, — сказал голос. — Укради селёдку».
«Что?» — не сразу поняла я.
«Укради селёдку! Быстренько, быстренько! Возьми, и укради селёдку!»
В голове у меня по-прежнему мутилось, а челюсти сводило.
«А что? — подумала я. — Никого нет, никто не увидит. Раз, одну селёдку — ив мешок!»
«Правильно! — поддержал меня голос. — Укради селёдку! Сейчас её дома разделаешь, с лучком, с подсолнечным маслицем... Или даже — просто так нарежешь... Картошки сваришь... Укради! Укради селёдку!»
И тут мне стало смешно.
Я такие усилия предпринимаю, я отказалась от всех, практически, продуктов! Я вступаю, да нет, вступила уже, в борьбу с теми, кто ворует у меня на работе — и вот, на те бе! На какой-то селёдке! Так проколоться на какой-то селёдке! Уже почти в сумку положила...
«А вот тебе! — сказала я этому голосу, этому примитивному нахалу. — Вот и не украду!»
«Укради селёдку... — сказал он уже не так уверенно, а как бы просяще. — Укради... Смотри, какая жирненькая...»
«Нет, — сказала я, и тут вышла продавщица с деньгами, положив конец нашему диалогу.
«Ну и ну! — думала я по пути от лотка. — Вот это да! Это мне было... как это верующие говорят... искушение. Точно, это у меня было искушение. Но как грубо, как примитивно! И то я чуть не попалась. Правильно пишут святые отцы: выходя на борьбу, готовься к искушениям. Это я выступаю против воровства, и поэтому искушение у меня такое — воровством. Против чего борешься, тем и искушаешься».
Я перешла дорогу, и вступила в свой собственный двор. Но успокоиться я не могла.
«Почему же это искушение такое простое было, такое было примитивное? Как анекдот, честное слово! Может, и борьба моя — такая же примитивная? Такое явное искушение — явно и побороть, оно всё на виду. Ответь мне, Господи, ответь, что же это такое со мной было? К чему это, а?»
И уже когда я нажала на кнопку звонка, в тот короткий миг, когда я слышала за дверью топот ног моего младшего сына, бегущего открывать мне дверь...
Короткая, как молния, мысль промелькнула в моём мозгу: «Это сигнал тебе! Первый сигнал! Будь готова! Готова будь...»
ГЛАВА 2
Во вторник я работаю после обеда. Только пришла, только переоделась, слышу — ищут меня. — Где Наталья? Где Наталья?
Голос воспитательницы седьмого «Б», женщины хорошей, «понимающей», только очень эмоциональной.
— Да тут я, тут.
Я выглядываю из своего кабинета. Кабинетик у меня маленький, но уютный. «Келья» моя. Тут у меня любимая моя икона — «Умиление».
Причём я выбрала эту икону — просто так, за красоту. Выбрала, рамку купила и поставила икону под стекло.
Потом только узнала, как эта икона знаменита. Узнала, что именно перед такой иконой молился преподобный Серафим. И стала я к батюшке Серафиму обращаться, через эту икону.
Я перекрестилась на свою икону ещё раз и открыла дверь.
— Тут я, тут.
Воспитательница седьмого «Б», Татьяна Васильевна, стояла на пороге моего кабинета, держа в руках тарелку с нашим, интернатским пловом.
Сзади выглядывали две любопытные и живые мордочки — дети из её седьмого «Б». Они тоже держали тарелки.
Татьяна поставила свою тарелку мне на стол и не сказала, а всхлипнула:
— Нет, ты смотри, Наталья Петровна, ты смотри! Смотри, чем они сегодня детей кормят! Смотри, смотри!!
Смотреть, и правда, было на что, вернее — совершенно не на что. По тарелке что-то такое было размазано. Причём, в небольшом количестве.
Разваренный, размазанный рис, с точечными вкраплениями морковки. Вместо мяса — кусочки каких-то жил, хрящей. И тоже — совсем немного, чуть-чуть.
— Нет, Наталья, ты смотри, смотри! Можно так детей кормить? Посмотри, что это за порция! И посмотри, какая она, эта порция! Это седьмому-то классу! Они же растут!
Да... — сказала я.
Всё, идите отсюда! — прикрикнула Татьяна на сво
их детей. — Тарелки ставьте, и идите в столовую, ждите
меня!
Когда дети ушли, Татьяна села на стул возле моего маленького столика, и уже значительно тише сказала:
— Сделай что-нибудь, Наталья. Сделай что-нибудь.
— Что ж я сделаю?
— Ты же там ходить начала... в столовой нашей... Проверяешь, вроде...
Дело в том, что я совсем недавно стала кухню проверять. Как брать перестала, так и с проверкой смогла прийти.
Проверяю, как врачу положено. Закладку продуктов, выход готовой продукции. Раньше я это тоже делала, но совершенно формально. Зайду, улыбнусь, спрошу: «Как дела?». Спишу данные с меню-раскладки в свой бракеражный журнал. Это у меня журнал такой, где положено записывать результаты проб и их соответствие меню.
Потом пойду в комнату для администрации и поем. Вот и вся проверка. Никогда я с кухней не ссорилась.
А теперь...
По меню-раскладке — положено одно, а на столах у детей — стоит совсем другое. Например, котлеты. Положен выход сто двадцать граммов, а котлета весит восемьдесят. Да ещё и вкус! Больше напоминает хлебный мякиш, тушенный в бульоне, чем котлету. И всё прочее — примерно так же.
И что мне теперь делать со всем этим... Это только сказать легко, что я проверяю.
— Угу. Начала. Проверяю, — ответила я Татьяне. — Вот, бери эти порции, и пойдём к директору. Вместе. Пойдём, пойдём. Пусть видит всё, как есть...
Татьяна молчала. Потом она потёрла виски и сжала голову руками.
— Померь мне давление, что ли. Голова раскалывается. Я достала тонометр, закатала Татьяне рукав.
— 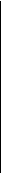
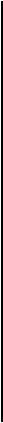
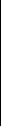
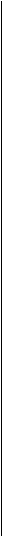

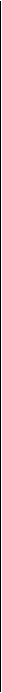
 Ворюги! — продолжала она. — Господи, какие ворюги... А к директору я не пойду. Уж извини меня, Наталья, но ты же знаешь... У меня семья... Наша директриса —' ни на что не посмотрит. Ни на заслуги, ни на возраст. Придерётся к чему-нибудь и уволит, на старости лет. А куда я пойду?
Ворюги! — продолжала она. — Господи, какие ворюги... А к директору я не пойду. Уж извини меня, Наталья, но ты же знаешь... У меня семья... Наша директриса —' ни на что не посмотрит. Ни на заслуги, ни на возраст. Придерётся к чему-нибудь и уволит, на старости лет. А куда я пойду?
— Знаю, — сказала я. — Директор наша — всё может.
— Да они бы там, на кухне, не воровали бы так нагло, если бы она... директриса наша... не покрывала бы их... Кладовщица, Тамарка-то... уже так нос задрала, что с нами, воспитателями, и не здоровается. Ждёт, пока мы с ней первые здороваться начнём... Зато к директору — каждый день бегает, по десять раз.
— Сто пятьдесят на девяносто, — сказала я.
— Вот, повышается. От такой жизни...
— Повышается. Корвалола накапать? Или сразу адель-фана дать?
— Давай корвалол. Давай пока корвалол, а я приду через часок, и ты мне перемеряешь. Хорошо?
— Приходи.
Я накапала Татьяне её законные двадцать пять капель. Тарелки с пловом стояли на столе, взывая к небесам.
— Бери, Татьяна Васильевна, свои тарелки, — сказала я, — а я сейчас на обед пойду, и попробую сделать что-нибудь... Возьму, контрольное взвешивание сделаю. Пойдёшь в комиссию? Там же надо комиссионно проверку оформлять.
— Нет, Наталья, — Татьяна поджала губы и покачала головой. — Ты уж извини. Извини, ладно... Да и мои поели уже...
И она стала суетливо собирать тарелки, ставя одну на другую, прямо в плов днищами.
— Оставь одну, — сказала я. — Пойду я, всё-таки попробую до директрисы дойти.
Не ходи. Сегодня её нет, она в область уехала. А я — это всё так, в принципе... Ты не подумай...
А я и не думаю. Я и сама — не слепая.
Честно говоря, я испытала облегчение. От того, что нет директрисы. Объяснение откладывалось.
Хотя директриса наша, несомненно, в курсе всего происходящего. Она у нас — всегда всё знает. Даже невозможно предположить, кто ей все текущие новости... приносит. Чтобы не сказать — всё доносит. По-моему, у неё, как у всякого «приличного» начальника, имеются осведомители во всех службах.
Так вот и представляю себе ниточки, собирающиеся в её крепкий кулак. Да, похоже.
Наверно, только у нас, в медпункте, у неё нет осведомителей, потому что весь медпункт состоит из двух человек. Из врача, то есть из меня, и из санитарки, которой я доверяю, как самой себе.
Стычка наша с директором — неизбежна, и от этого на сердце тревожно. У директора, а, вернее, у директрисы нашей — крепкий характер... А я... Мне иногда кажется, что у меня — совсем характера нет.
Надо смотреть правде в глаза. Иногда — я просто боюсь нашу директрису...
Да её все у нас боятся. Воспитатели, учителя, обслуга... Вот и Татьяна. Всё, что угодно, только не объяснение с директором.
Татьяна забрала тарелки и ушла, а я двинулась на кухню, вслед за ней.
Обед заканчивался. В зале оставались два восьмых и девятый классы. Дети, в основном, уже съели свой суп и подходили к раздатке за пловом.
Дети шестого класса уже вышли из столовой, и только воспитатель шестого класса ещё крутилась около столов. Она сливала суп, оставшийся в кастрюльке для раздачи. Она сливала его себе в баночку. В другую баночку она складывала остатки плова.
Рядом, на тарелке, лежали кусочки хлеба, оставшиеся после детей. Воспитательница сливала суп, чтобы отнести эту баночку домой. И хлеб тоже — сейчас завернёт и спрячет в сумку.
Я сделала вид, что ничего не заметила. Боже мой, даже такой «плов» складывает!
До чего же мы нищие, Господи...
Поздоровавшись с кухонными, я встала возле раздатки.
Порции для восьмого и девятого классов были побольше, повесомее, но качество «плова» было то же самое. Я подозвала шефа. «Шефу».
Наша «шефа» — личность замечательная. Про таких говорят, что на них — «знак качества негде ставить». Это точно. Негде. Потому что всё — качественно весьма. В нашей «шефе», например, есть всё, чего нет у меня.
— Здравствуйте, Любовь Андреевна! Можно вас?
Эх, хороша была Люба в молодости! Это точно. Да она и сейчас хороша. Та самая баба-ягодка, которая опять.
У неё высокий рост, у неё стать. У неё — приятная для глаз полнота. У неё белые, крашенные волосы. Она проста в общении и обращении, она виртуозно ругается и заразительно хохочет. И вообще, она прекрасно знает в своём пищеблоке всё и умеет держать в руках своих кухонных.
И не только на пищеблоке — она всё знает. Она знает всё, что ей положено знать по пищеблоку, кладовой и бухгалтерии. А то, что ей знать не положено, она тоже знает. Знает, но молчит, как партизан.
Умеет Люба наша молчать и, что не маловажно, умеет вовремя прикинуться дурой. Такие качества всегда в цене у начальства.
— Любовь Андреевна, идите сюда! — настаиваю я.
Люба подходит. Она давно готова, и сейчас перейдёт в наступление. А что у нас скроешь? Ничего не скроешь! Все уже знают, что Татьяна Васильевна бегала ко мне жаловаться, да ещё потащила порции со столов.
— Что, Натальюшка? — Люба — сама предупредительность. А меня, иногда, она называет на ты, и без отчества. Так повелось как-то.
Иногда и я — её по имени называю хотя она и старше.
Я пришла на работу совсем молодой, по интернатовским меркам. Пришла, потому что, в тот момент, мне просто некуда было устроиться на работу.
Мы приехали в этот маленький городок четыре года назад. Вместе с мужем, военным в чине подполковника. Здесь он и на пенсию вышел, здесь и квартиру получили.
И я вот прикипела, осталась в этом интернате. Как устроилась сюда, не особо размышляя, так и уйти не смогла. Хотя, потом уже, и возможность была уйти. И в поликлинику, и на «Скорую». И даже — в стационар. Правда, на «Скорой» я подрабатываю, время от времени.
И вот, уже четвёртый год заканчиваю, работая врачом этого интерната. Четвёртый учебный год.
Нет, я не могу сказать, что плохо ко мне народ относится, нет. Сколько раз мне говорили, и говорят: «Как мы тебя любим!» И воспитатели, и кухонные, и технички. Самое главное — я сама детей люблю, к детям привязываюсь.
А с сотрудниками стараюсь не ссориться.
Если что надо •— не кричу, а приду, попрошу. Потом — ещё раз приду. И народ откликается, почти всегда. Ни с первого раза, так с третьего. Ну, а если не откликается, то я, в основном, спускаю ситуацию «на тормозах». А, бывает — пойду, и сама всё сделаю.
Нет, надо честно признаться, что требовать я не умею. Не умею настаивать, не умею «стоять на своём».
Разве что, если касается больных. Тогда я могу. А в обыденной жизни... Нет, слаба.
Кухню я вообще раньше не трогала, и жили мы с Любой — душа в душу. Всегда была она мне симпатична. Хоть и разные мы с ней. Ох, какие разные.
Только на интернатских вечеринках мы одинаковые. Я петь люблю. Всякие песни, включая народные. И у Любы голос хороший. Как затянем мы с ней вдвоём...
Пожалуй, надо отвлечься от лирики.
Вот он, стоит передо мною, этот «плов». И что, я опять не смогу ничего сказать? Опять спущу всё «на тормозах» и ласково спрошу «шефу»: «Ах, Любовь Андреевна, почему это плов... не совсем хорош?» Ох, помоги мне, Господи!
— Любовь Андреевна, объясните мне, пожалуйста, что это за «плов»? Где тут мясо? Где тут масло? Где эти пять граммов масла на человека, которые написаны в меню? Вы сами масло в плов закладывали?
— Конечно, Наталья Петровна, конечно! Только такое плохое масло! Одна вода! Просто ужас! Я хотела вас позвать, да вас не было!
— А мясо? Мясо-то где?
— А мясо — такое было ужасное, такое ужасное! Одни кости!
— Вы взвешивали кости? В журнал отходов записали?
— Конечно!
— Сколько?
— Пять килограммов костей! Передок, одни рёбра, и хребет. Что тут можно взять?
Мяса, по меню, на плов полагалось одиннадцать килограммов. Но то, что размешано в «плове», не тянет и на шесть килограммов. У меня уже есть небольшой опыт. Накопился, за время проверок. Я уже могу без весов определить, сколько заложено. Примерно, конечно.
— Что это за мясо такое?
— А это ты уже у кладовщицы спрашивай, почему она такое мясо берёт! А мы что, что нам дают, из того и варим!
— Люба, я не знаю, из чего ты варила, — говорю я, — но ты посмотри, что ты сварила! Это же ужас, что такое! Это пластилин какой-то! И масла тут нет никакого!
«Шефа» переглянулась с поваром.
И в этот миг на кухню вошла кладовщица Тамара Васильевна. Эдакий вплыл корабль, с другого входа, со стороны мойки.
Тамара Васильевна плотно упакована в толстую безрукавку и в толстые, с начёсом, рейтузы. В кладовой отопление плохое, там холодно.
С видом полноправной хозяйки, даже не хозяйки, а барыни. Медленно, с тарелкой и ложкой в руках, кладовщица подплыла к маленьким кастрюлькам, стоящим на плите, и положила себе плова.
Плова настоящего, нормального цвета, с мясом, видимым издалека. Эти кастрюльки не для всех. Они — для «элиты» интернатской. Для администрации.
И мне сейчас положат из них, если я буду есть. И директору, и завучу, и старшему воспитателю. И бухгалтерии. И кухня поест из этих кастрюлек. В общем, на эти кастрюльки — достаточно клиентов.
Я сама ем из этих кастрюлек, из этих сковородок. Почему же меня так задевает круглая фигура нашей кладовщицы?
— Тамара Васильевна, подойдите сюда! — позвала я кладовщицу к общему котлу. — Посмотрите, что это сегодня за плов у нас?
— Что? Чего там? — не подойти Тамара не могла. Формально, конечно, но я была старшей по положению.
— Тамара Васильевна, вы в этот котёл гляньте! Ведь на эту еду — без слёз смотреть нельзя!
— А мне что? Они варили, с них и спрашивайте!
— А они утверждают, что мясо плохое. Вот, журнал отходов. Костей — почти пятьдесят процентов!
Я, что ли, выбираю его, это мясо? Мне что на базе Дали, то я и везу. Спасибо ещё, что это дают! А то — вообще ничего не дадут. Мясо — передок, говядина старая. Эта корова, наверно, старше меня была. А вы говорите — мясо!
Да ладно, Натальюшка, перестань! — «шефа» обняла меня сзади. — Перестань, перестань! Вот, смотри — плохой плов, а уже доели. Ишь, как выскребают!
Повариха Света во время нашего разговора хранила молчание, иско'са поглядывая в нашу сторону мутноватым взглядом, утопающим в припухших скулах. Она уже всем раздала второе и теперь выскребала со дна слегка пригоревшее «нечто». Это она и раздавала девятому классу, на добавку.
Худые, бледные, прыщавые девятиклассники стояли с той стороны раздатки, маленькой группкой. Дети у нас, в основном, из многодетных семей. Из социально неблаго получных, а половина — вообще сироты. Сироты официальные и неофициальные. С оформленными документами и с неоформленными.
Девятый класс, подростковый возраст. Денег у них нет. Вся их еда — только отсюда, из столовой.
Этим, что ни дай — всё сметут.
— Вкусно, ребятки? — слащавым голоском обратилась к ним Люба.
И получила ожидаемый ответ.
— Вот видишь! — и она повернулась ко мне. — Видишь, всё в порядке! Иди лучше, Натальюшка, пообедай!
В это время к раздатке подошла старший воспитатель, или просто — «старшая», как её все называют у нас. Светлана Сергеевна.
— Здравствуйте всем! — сказала она бодрым голосом. — Наталья Петровна, вы не обедали? Пойдёмте, пойдёмте вместе!
И я прошла с ней в комнатку для избранных персон. Для администрации. На пороге я обернулась и сказала им обеим — и «шефе», и кладовщице:
— Я завтра приду с утра. Без меня — не разделывайте мясо. Я хочу его сама посмотреть и взвесить. А также масло. В кашу, утром — не закладывайте без меня. И сегодня на ужин — я тоже приду, масло заложу в кашу. И порционное масло — взвешу. Имейте в виду.
Date: 2015-07-23; view: 406; Нарушение авторских прав