
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Замещение в игровой деятельности ребенка 4 page
|
|
правильно, правдоподобно или хорошо, зачеркивают изображенное и рядом или на обороте принимаются рисовать то же самое, только с большим старанием и точностью.
В это время ребенку важно, чтобы рисунок поняли и оценили другие. Принципиально в рисовании ориентация на других появляется задолго до того, как ребенок приступит к изображению реальной действительности: как только каракулям начинает приписываться содержание, они превращаются в средство указания и сообщения, но эти сообщения выражаются сначала в словесной форме (интерпретация каракуль, о которой мы говорили выше), а не в них самих.
Довольно скоро ребенок начинает осознавать, что одно лишь называние предмета без сходства с изображаемым недостаточно для того, чтобы рисунок был понят другими,, поэтому в дошкольном возрасте начинается длительный процесс овладения сходством, совершенствованием собственного изображения. В нем важную роль играет привнесение собственного опыта и обогащение рисунка в обучении с помощью взрослых. Специально останавливаясь в анализе рисования на стадии рисунков-схем, В. С. Мухина справедливо говорит о смешении понятий «схематизм» и «символизм» при их обсуждении. Здесь правильнее было бы говорить о том, что преобладает в процессе рисования: ребенок рисует то, что узнает об объекте в ориентировочном исследовании изображаемого предмета и наносит просто схему в исполнительской деятельности.
Постепенно графические образы становятся все более дифференцированными и гибкими и все более адекватно способны передавать представления ребенка о предмете. В развитии рисования В. С. Мухина особо отмечает две тенденции: с одной стороны, тенденцию обогащать образы содержанием, почерпнутым из познания деист (тельности; с другой стороны, тенденцию к стереоти-пизации, схематизации изображения знакомых объектов. В обучении рисованию можно следовать любой из этих тенденций: обучение, основанное на копировании образов, способствует схематизации изображения и образованию графических шаблонов; обучение, направленное на соотнесение рисунка с реальным объектом, на передачу разных свойств объекта в рисунке ведет к снятию шаблонов и совершенствует графическую форму рисунков.
В завершение отметим, что мы разделяем вывод В. С. Мухиной о синтетическом характере детерминации детского рисования и о решающей роли усвоения социального опыта. Общая линия развития рисования прослеживается ею в сопоставлении со знаково-символической деятельностью. Линия формирования знаково-сим-волической деятельности в рисовании идет от черкания, каракуль, направленных на овладение графическими движениями, через вос-
произведение собственных рисунков, узнавание определенной конфигурации предметов и называние своих каракуль с приписыванием им полифункциональных, как и в игре, значений к сознательному изображению реальных предметов и сюжетов, к определенному уровню графического моделирования, способствующего углубленному познанию свойств вещей и явлений.
Графические знаки качественно отличаются от словесных, ’ это различие имеется не только в изобразительности рисунка, но и в «особом соотношении функции обозначения и функции сообщения, которые в речи совпадают, а в рисовании расходятся:
рисунок изображает предмет или ситуацию и сообщает отношение к ним» (173, с. 220). В этом своеобразии функций рисунка, как особого вида знаков, В. С. Мухина видит важную роль рисования в общем развитии знакового сознания. Исследование В. С. Мухиной в отечественной психологии является одним из немногих, где анализ рисования ставится в контекст овладения ребенком знаково-символической деятельностью. Мы разделяем ее мнение о том, что овладение рисованием есть овладение знаково-символической деятельностью, где знак усваивается в функции обозначения и сообщения. Отталкиваясь от указанных положений, мы провели ряд экспериментов с целью рассмотрения детского рисования как естественной замещающей деятельности.
В первую очередь мы поставили задачу выявить, как ребенок пользуется изображениями как обозначениями, и в какой степени дети дошкольного возраста владеют умением замещать предметы их изображениями. С этой целью мы предлагали детям ряд заданий, первое из которых условно названо нами «Идентификации». Детям в возрасте от трех до шести лет предлагалось опознать ряд предметов по: 1) их условно-схематическому изображению;
2) их условному изображению с более конкретным указанием на существенные признаки (их прорисовкой); 3) их конкретному изображению с обозначением ряда отличительных ^«ризнаков. В основу эксперимента легла схема исследования Л. Кармайкла, X. Хогана и А. Уолтера, используемая в оригинале для изучения взаимовлияния словесной и зрительной памяти (305).
Мы предлагали детям серию из десяти вариантов изображений по три на каждое, от первого к третьему усиливающих наличие конкретных признаков, например, вариант «птички»:

|
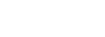
|

|
10 Зап. 78ф. 145
или вариант «шляпы»:

|

|

|
Изображения каждой «тройки» предъявлялись в индивидуальной работе по одному, начиная с первого — условного, схематичного, символического. Если у ребенка возникали затруднения с первой идентификацией, мы предлагали вторую картинку, затем третью, и так в каждой «тройке». Целью было определение того, с какого возраста дети начинают понимать и могут ориентироваться не на конкретное, а условно-символическое изображение в функции обозначения.
В эксперименте участвовало по 40 детей трех возрастных групп:
трех-четырехлетние дети, четырех-пятилетние и пяти — семилетние, посещающие детский сад — среднюю, старшую и подготовительную к школе группу. В проведении эксперимента участвовали студенты заочного отделения дошкольного факультета Тульского госпединститута им. Л. Н. Толстого.
Получены следующие результаты. Дети трех-четырехлетнего возраста идентифицируют объекты только по конкретным изображениям с прорисовкой необходимых признаков. 85% детей этой возрастной группы (34 ребенка) узнали предмет только при предъявлении им третьего изображения серии; 15% — при показе второго (б детей). По первой картинке трех-четырехлетние дети не смогли опознать ни один из предъявленных десяти объектов. Дети четырех-пяти лет способны в значительно большей степени отвлечься от конкретных признаков и сориентироваться в условном, схематическом изображении. По третьей картинке объект определили 25% детей (10 человек), по второй — 60% (24 ребенка), и по первой—15% (6 детей). Дети же старше пяти лет демонстрируют еще более выраженную способность видеть в условном изображении (заместителе) обозначение предмета: в нашем эксперименте 55% (22 человека) опознали предметы по второму изображению и 45% (18 детей) — по первому. Конкретный рисунок не потребовался ни одному ребенку. Кроме того, у этих детей опознание было не всегда совпадающим с нашим конкретным изображением:
например, задуманное как бутылка изображение воспринималось как совочек; задуманное как очки опознавалось как гантелька и т. п. (см. табл. на с. 154).
Полученные результаты позволили заключить, что именно к старшему дошкольному возрасту постепенно формируется отноше-
ние к изображению как к знаку предмета (этот процесс аналогичен такому же в игровой деятельности).
Вторая задача адресовалась детям подготовительной группы. Им предлагалось выполнить несколько иное и более сложное задание, названное нами «Алфавит». Цель его состояла в определении того, что именно в условном изображении подсказывает ребенку знаком чего оно является. Суть экспериментальной игры-задачи состояла в следующем. Известно, что современный алфавит восходит к пиктографическим изображениям реальных, необходимых и повторяющихся в быту человека предметов. Каждая современная буква прежде чем принять известный нам внешний вид проходила ряд изобразительных стадий. Первая стадия формирования графического облика буквы — это в большей или меньшей мере схематизированное изображение реальных, используемых в обиходе предметов (см., например, реконструированный Н. С. Трубецким порядок глаголицы; цит. по: 252, с. 23–45). Мы предлагали детям шести-семилетнего возраста, уже знакомым с начертанием и названиями печатных букв, семь карточек, на каждой из которых было три изображения: на первом изображалась пиктограмма, на втором она же давалась в более схематизированном, обобщенном виде, на третьем предлагалось традиционное начертание буквы (а, б, к, м и т. д.). Первые две карточки из семи мы использовали как тренировочные и работали с ними вместе с детьми, объясняя суть задания, побуждая детей выдвигать гипотезы и т. д. Остальные пять карточек участвовали в эксперименте. Инструкция предлагалась простая: «Внимательно посмотри на картинку. Она похожа на одну из тех букв, которые ты уже знаешь. Какую букву напоминает тебе эта картинка? Назови одну или несколько букв и объясни, где они видны на картинке». Картинки на каждой карточке предъявлялись по одной, две другие закрывались бумажной шторкой. Если ребенок испытывал затруднения на пиктограмме, мы открывали схему и, наконец, само начертание буквы. Перед началом эксперимента мы убеждались, что дети знают буквы, рассказывали им историю возникновения букв алфавита из рисунков, пользуясь буквами тренировочных карточек и буквами, не участвующими в эксперименте: например, а — алеф — бык, голова быка (пиктограмма — голова быка с рогами), б — бет — шатер, дом (пиктограмма — шатер) и т. д. Экспериментальные карточки были проще и выполнены более тщательно, чем тренировочные.
Мы предположили, что если к шести годам у ребенка формируется замещающая деятельность, то он, в принципе, может усматривать сходство даже весьма отдаленное, в частности пиктограммы и буквы, ею обозначенной. На предварительных занятиях мы с детьми искали буквы в привычных пейзажах и предметах (перекрещивании проводов, на ветках деревьев, на камнях и т. п.).
| 10′ |
Тремя картинками на каждой карточке задавались три условные стадии этого усмотрения: 1) высокий уровень развития замещения, позволяющий в материале небуквенной (неспецифической, другой) природы обнаружить материал буквенной природы; 2) средний уровень развития замещения, при владении которым возможно усмотрение отдаленного сходства (схемы и буквы); 3) низкий уровень, позволяющий усматривать лишь внешнее сходство, фактически описывающий иконические замещения. Всякий раз, когда ребенок угадывал букву, улавливая нечто общее, мы просили его объяснить, почему он так думает, в чем видит сходство пиктограммы или схемы с буквой, которую он называет. Соответственно номеру изображения на карточке, на котором ребенок справлялся с задачей, ему условно приписывалась та или иная степень владения замещением на материале графической деятельности.
В эксперименте приняли участие 96 детей в возрасте от 5,8 до 6,4 лет из подготовительных к школе групп детских садов Тульской области. Задание оказалось довольно сложным, но все же часть детей показали интересные результаты: при предъявлении первой картинки из трех на карточке с заданием сумели справиться 8 детей (около 8% испытуемых, все они оказались в возрасте старше шести лет), они опознали спрятанную букву, хотя и не на всех пяти экспериментальных карточках. Средний уровень продемонстрировали 16 детей (около 18%). Однако большая часть испытуемых обнаружила лишь владение иконическим замещением в графической деятельности—75% (72 ребенка), что, собственно, свидетельствует о том, что развитие замещения в графической деятельности значительно отстает от его же формирования в игре, Дети с высоким уровнем замещения давали довольно интересные интерпретации своим ответам. Например, третья экспериментальная карточка описывала эволюцию буквы «г» (гимел) из пиктограммы «жезл», и дети, показавшие высокий уровень сформирования замещения, часто заявляли — «это загогулина, а слово загогулина похоже на букву г»; или «этот рисуночек похож на клюку, на палку, здесь держать надо, вот и получается г» и т. п. Если учесть, что речь идет о греческом слове «гимл» («гимел»), что значит жезл, результаты покажутся еще более интересными. Четвертая экспериментальная карточка демонстрировала эволюцию буквы «д» (дельта) из пиктограммы «дверь» или «дом». Дети связали пиктограмму с буквой следующим образом; «Это дом, крыша, вот сделать ножки и получится буковка д»; или «домик — значит д» и т. п. Наиболее сложной для всех детей оказалась карточка с эволюцией буквы «к» (каппа) из пиктограммы «каф» — «ладонь», в которой при трансформации пиктографического изображения в букву присутствовал поворот направо. Пиктограмма представала перед испытуемыми в необычном ракурсе, и это всегда вызывало
затруднения: многие дети принимали ее из-за этого за буквы «ж». и «ш», что, в принципе, может и не считаться ошибкой, поскольку дети давали правдоподобные объяснения своим предположениям.
Анализируя полученные данные и сравнивая их с результатами предыдущего эксперимента, мы столкнулись со следующим фактом:
в старшем дошкольном возрасте дети достаточно легко используют изображения в качестве обозначений предметов, судя по полученным сведениям, а при столкновении с обратной процедурой (абстрагирование обозначения из обозначаемого) показывают чрезвычайно невысокие результаты. Мы объясняем это так: использование уже созданных, отфиксированных и апробированных в человеческой культуре, усвоенных в общении со взрослыми и обучении условных изображений дается старшим дошкольникам легче, чем собственное создание символа, извлечение некоего обобщенного признака из живой действительности.
Для того, чтобы понять, как дошкольники осуществляют замещение в изобразительной деятельности, что именно подвергается интерпретации, что выступает как означаемое в действительности для ребенка, мы предлагали детям из подготовительной к школе группы детского сада задание «Копировальщик». В индивидуальной работе мы просили ребенка как можно старательнее и лучше срисовать, сделать копию с изображения на художественной открытке так, чтобы другие могли догадаться, что изображено на его «репродукции». Для такого копирования мы предлагали фрагменты сложноструктурированной, символической действительности — фрагменты репродукций с картин И. Босха и М. Грюневальда. Выбор материала связан с тем, что нам хотелось в наибольшей степени нивелировать информированность ребенка о предметах и событиях, которые требовалось скопировать. Если исходить из того, что дошкольник рисует не столько с натуры, сколько то, что знает об изображаемом объекте или явлении, то чем менее известен ему этот объект, тем более отчетливо будет выглядеть знаковый характер изображения. Мы предположили, что осмысление непонятного сюжета начнется ребенком с интерпретации и означения знаковых объектов, а в копии сюжет получит то толкование, которое сможет придать ему ребенок. Процессуально осуществление знаково-символического замещения нам виделось так: осмысляя изображение как целое, ребенок «снимет» с него некоторый смысл, обусловленный пониманием его фрагментов; каждый персонаж в свете толкования, данного ребенком, приобретет те черты, которые ребенок сможет в нем усмотреть и обобщить. Приобретшая некоторый новый смысл картина и будет изображена ребенком в созданной копии. Замещая одно изображение другим, ребенок может действовать как бы на трех уровнях: 1) он может просто попытаться срисовать фрагменты сложного изображения, не давая ему ника-
кого осмысления, то есть просто на уровне техники рисования;
2) он может осмыслить, истолковать и изобразить только часть изображения, знакомую и понятную ему, не выстраивая новой целостности; 3) он может осмыслить весь сюжет как целое’и изобразить его в виде схемы. Понятно, что качество выполнения задания может косвенно свидетельствовать об уровне владения замещающей деятельностью. Мы предполагали, что дети старшего дошкольного возраста способны осмыслить и изобразить знакомые им части картин, но не умеют еще означивать сюжеты такого сложного типа в целом.
В эксперименте участвовали дети трех возрастных групп: пяти-, шести- и семилетние (18, 24 и 27 человек соответственно). Это были воспитанники старшей, подготовительной к школе групп детского сада и учащиеся первого класса школы, обучающиеся с шестилетнего возраста.
Работа осуществлялась индивидуально с каждым ребенком. В качестве материала, подлежащего копированию, использовалась открытка с репродукцией картины И. Босха «Das Tausendjahrige Reich». Детям давался большой набор цветных карандашей и фломастеров, бумага для создания «копии». Перед началом работы предлагалась следующая инструкция: «Внимательно рассмотри эту картину. Как ты думаешь, что на ней изображено? Что здесь происходит? Как она называется? Расскажи, пожалуйста, что случилась с этими людьми и животными. А теперь нарисуй эту картину так хорошо, как ты умеешь». Все дети легко принимали эту задачу, не было ни одного случая отказа со ссылкой на отсутствие технических изобразительных умений. Нужно также отметить, что словесная продукция всегда была значительно богаче изобразительной, что все-таки связано с отсутствием или несовершенством технических, графических навыков в этом возрасте, например, неумением соотносить размеры фигур, использовать перспективу, изображать объемные формы и пр. Для наших целей техническое исполнение рисунка не было важно. Окончанием эксперимента мы считали момент, когда ребенок после рассказа с интерпретацией изображения считал свое изображение законченным и мог прокомментировать рисунок-копию.
Получены следующие данные. В старшей группе (дети в возрасте пяти-пяти с половиной лет) испытуемые непродолжительное время рассматривали картину и очень быстро давали название. Название, как правило, было связано с отдельным эпизодом или отдельными персонажами репродукции, легко схватываемыми ребенком. Так, на наш фрагмент картины И. Босха мы получили следующие названия:
«Тетя купается», «Яблоко на палке» (?!), «Животные», «Человек с негром», «Птицы», «Зяблики» и т. п. Уже по этим названиям легко понять, что они даются по отдельным частям изображения,
без попыток связать в некое единое целое изображенных персонажей и действий. Можно заключить, что ребенок действительно видит и обозначает лишь то, что знает. В копиях, которые мы получили в старшей группе, ничего сверх данных названий на детских рисунках не было.
В подготовительной группе (24 ребенка в возрасте от пяти с половиной до шести с половиной лет) результаты были примерно те же за исключением того факта, что в копиях присутствовал не один, а несколько фрагментов воспроизводимого изображения, но также почти не связанных в целый сюжет. И если дети старшей группы, назвав изображение, больше не возвращались при копировании к самой репродукции, то в подготовительной группе все дети действительно копировали репродукцию, примериваясь к соотносительным размерам, учитывая пропорции и цвета. Важно и то, что даваемые названия стали приобретать некоторые признаки обобщенности: «Бал животных», «Война зверей», «Люди борются со зверями», «Животные хотят поделить яблоко на всех» я пр. Из 24 детей шестеро (25%) смогли не только назвать рисунок по выделенному фрагменту, но и придумать сюжет, связывающий всех персонажей. Это заметно повлияло на построение композиции рисунка. Из этих данных можно сделать вывод, что здесь налицо более осмысленное и осознанное отношение к знаку (рисунку) как средству передачи некоего смысла (изображения)..
Наконец, в группе школьников (27 детей в возрасте от шести с половиной до семи с половиной лет) было обнаружено, что большинство детей дают название уже не по персонажам («Живогаые», «Птички») или их действиям («Сумасшедший человек долбит камень», «Медведь прячется под зеленым одеялом», «Дракон дерется с коршуном» и т. п.), а по осмыслению всего изображения в целом, поэтому и названия здесь качественно другие: «Охота», «Сказочный пляж», «Зоопарк на Марсе», «Живая природа» и т. п. На наш взгляд, можно заключить, что уже в названиях присутствуют попытки обобщить, символизировать некое содержание, в рамках которого каждый персонаж и его действия занимают свое место и осмысляются как части некоего общего целого. Это может служит свидетельством того, что чем старше ребенок, тем более качественной и осознанной становится замещающая деятельность. От знака-копии, используемого по преимуществу детьми 5–5.6 лет. испытуемые переходят к более обобщенным знакам, используют их более осознанно, они больше нацелены на выполнение социальных функций. В то же время замещающая деятельность остается ограниченной, потому что чаще ребенок способен заместить предмет не по его целостным характеристикам, а по части, не по существенным признакам, а по наиболее заметным, бросающимся в глаза. наиболее знакомым. Следовательно, переход к моделированию на
уровне рисования осуществляется позже, чем на уровне игровой деятельности.
Еще одна экспериментальная серия была связана с анализом влияния речи на графическую деятельность дошкольника и отвечала на вопрос, в какой степени у дошкольников связаны изображение и его словесное наименование, поскольку в предыдущем эксперименте «Копировщик» мы заметили явную зависимость называния и изображения воспроизводимого фрагмента (что называлось ребенком, то и изображалось, даже за счет утраты внешнего сходства). В литературе описаны факты неразличения ребенком формы и смысловой стороны знаков. Так, в исследовании Е. А. Бугрименко ставилась задача выявить возможности старших дошкольников в различении смысловой стороны знака (то есть значения) и его формы по оригинальной методике сравнения слов. Детям предлагалось сравнивать по длине пары слов, например, «карандаш» и «карандашик», ориентируясь на форму слова, а не на объекты, им изображенные (содержание). Обнаружилось, что семилетние дети лучше, чем шестилетние, умеют отдифференцировать форму слова от его значения. Шестилетние дети, несмотря на подробную инструкцию, ориентируются не на отношения между словами, а на отношения между обозначаемыми предметами. Поэтому у них и получается, что слово «карандаш» длиннее слова «карандашик», «потому что карандашик — это когда он стал маленьким» (248, с. 171).
Из этой работы следует вывод: для шестилетних детей характерно отсутствие осознанного отношения к знаку; знак и обозначаемый им предмет в сознании детей этого возраста не разделены.
Мы постарались проверить справедливость этого вывода на материале графической деятельности дошкольников. Для этого мы предлагали детям две экспериментальные игры. В первой мы зачитывали ребенку текстовую стихотворную загадку, в которой отгадка и навязываемый текстом зрительный образ расходились. Целью игры-задачи было установление преобладания слова или образа некоего предмета, вызываемого решением задачи. Мы назвали это задание «Загадкой Д. Хармса» по имени автора стихотворения «Что это было?»:
Я шел зимою вдоль болота
В галошах,
В шляпе
И в очках.
Вдруг по реке пронесся кто-то
На металлических крючках.
Я побежал скорее к речке,
А он бегом пустился в лес,
К ногам приделал две дощечки,
Присел,
Подпрыгнул
И исчез.
И долго я стоял у речки,
И долго думал, сняв очки:
«Какие странные дощечки И непонятные крючки!»
Мы в инструкции просили ребенка внимательно выслушать стихотворение-загадку и нарисовать отгадку, ничего не говоря экспериментатору, и только после того, как экспериментатор посмотрит рисунок, надо будет объяснить, что нарисовано. Мы предположили, что дети, недостаточно владеющие графическим замещением, будут находиться во власти слов и, следовательно, изобразят крючки и дощечки. Дети же, которые владеют замещением лучше и умеют различить слово и обозначенный им предмет, смогут нарисовать коньки и лыжи.
В эксперименте участвовали дети четырех — шестилетнего возраста, по 60 детей в каждой возрастной группе. Все они были воспитанниками средней, старшей и подготовительной к школе групп детских садов г. Тулы и Тульской области. В проведении эксперимента участвовали студенты дошкольного факультета ТГПИ им. Л. Н. Толстого.
В группе четырехлетних детей нами получены следующие результаты. Все без исключения дети нарисовали дощечки и крючки;
не было зафиксировано ни одного случая изображения лыж и коньков. С точки зрения нашей гипотезы эти дети не умеют различать слова и обозначенные ими предметы. В сознании младшего дошкольника они слиты, нерасчленимы, причем слово преобладает над содержанием. Рисунки выглядели либо просто как рисование прямоугольничков и завитушек разного цвета, размера, либо как эти же фигурки, пририсованные к ногам человечка или расположенные рядом с человечком.
В группе пятилетних испытуемых из 60 детей 24 (около 40%) нарисовали дощечки и крючки, а остальные ’ сумели изобразить лыжи и коньки с подробностями (креплениями для ног на лыжах, ботинками со шнурками для коньков). Можно заключить, что замещение к пяти годам значительно прогрессирует и часть детей оказываются в состоянии различать слово и обозначенный им предмет.
Наконец в подготовительной группе (дети шести лет и старше) мы получили практически абсолютный результат правильного отгадывания и изображения: все дети изобразили коньки и лыжи в том современном виде, в котором они им известны. И это может означать, что к шести годам дети различают форму знака и его содержание и слово перестает интерферировать с изображением. В этой группе обнаружился и забавный факт: видимо, слова «присел, подпрыгнул и исчез» навели часть детей на своеобразные
ассоциации, и коньки и лыжи были нарисованы... на лапах зайца. Важно отметить и то, что от пятилетних к шестилетним детям нарастает стремление рисовать не просто предметы или персонажи, а сюжеты. Почти все испытуемые подготовительной группы представили красивые сюжетные изображения всего текста.
Во второй игре-задаче мы вернулись к уже однажды использованной экспериментальной схеме Л. Кармайкла, X. Хогана и А. Уолтера (304), чтобы проследить возможные искажения графических изображений под давлением словесных наименований. Детям подготовительной группы детского сада (24 испытуемым) предлагался ряд из семи фигурок многозначного содержания. Каждая фигурка получала два словесных обозначения. Испытуемые были разделены на две подгруппы по двенадцать человек:
первой подгруппе перед предъявлением называлось одно наименование фигурки, а второй подгруппе — другое. После экспозиции детей просили как можно точнее нарисовать показанную фигурку:
| Воспроизведенная фигурка | Первый список названий | Очертания фигурки | Второй список названий | Воспроизведенная фигурка |
| бутылка | и | СОВОК | ^ | |
| ® | полумесяц | С | буква «с» | С |
| .Д. | крыша | .0- | шляпа | <£b |
| <У\> | очки | 0-0 | гантеля | |
| вгз> | дудочка | >=« | метла | ar— |
| цифра «2» | т | цифра «8» | «& | |
| ® | руль | о | солнце | ^ |
Обнаружилось очень сильное влияние обозначения на последующее воспроизведение исходного изображения. Дети обеих подгрупп продемонстрировали стопроцентную зависимость от слова, которым сопровождалась экспозиция. Таким образом, хотя дети шестилетнего возраста и владеют умением различать обозначение и обозначаемое, они находятся под сильным влиянием тех названий, которые даются взрослыми и вписываются в их опыт. Поэтому столь велико значение речи в становлении знаково-символической деятельности, в частности замещения.
Из обоих экспериментов можно сделать общий вывод: чем
старше ребенок, тем сильнее обнаруживается связь речевого и графического замещения.
Обобщая все сказанное в данном параграфе, отметим, что замещение в графической деятельности заметно совершенствуется от младшего к старшему дошкольному возрасту по линии большей осознанности графических средств как знаков, как средств замещения некоторого содержания и по линии связанности знаковых систем разных типов (речевой и графической, за счет чего, вероятно, графическая деятельность и принимает на себя функцию означения, принятия на себя некоего, лежащего вне ее смыслового содержания).
Date: 2016-05-13; view: 658; Нарушение авторских прав