
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Формула милосердия 4 page
|
|
Конечно, как и все в нашей жизни, медицина не однородна. Я упомянул о негативных процессах, но параллельно можно было бы выстроить и бесконечно длинный позитивный ряд: безусловные успехи в сравнении с прошлым; техника, революционизирующая диагностику и лечение; новые решения, предусматривающие более справедливую оплату врачей; самоотверженность докторов и медсестер, благодарные слезы излеченных, чудовищное перенапряжение дежурств, операций, душевные муки, неведомые
людям иных профессий...
Неоднородно и общество в своем отношении к медицине. Переплелись отрицание и восторги, поношение и заискивание, возмущение и понимание. Критика бурлит подспудно, а на поверхности — в печати и по телевидению — героика людей в белых халатах, сюжеты, вызывающие добрые чувства и горькие размышления.
Правы ли те, кто утверждает, будто гласная критика нанесет ущерб репутации врача и тем самым причинит вред охране здоровья? Увы, подобное не раз мы слышали от учителей («дети перестанут уважать своих наставников, пострадает дело воспитания»), авиаторов и же лезнодорожников («люди испугаются и не будут ездить, летать, когда прослышат об ошибках, грозящих авариями») и от многих прочих досточтимых специалистов. Не нами сказано: критика не мед, чтобы с удовлетворением размазывать ее по усам. Поэтому и была она в загоне столь долгий срок, вытесненная из общественного сознания благодушием. Однако без нелицеприятного разговора о недостатках сегодня невозможно двигаться вперед.
Мост взаимопонимания, мост доверия…
Некоторые старые пролеты его рухнули под тяжестью событий. Другие разрушаются исподволь, требуют надзора и ремонта. Иные опоры поставлены надолго, может быть, навечно, как те, что вбиты Гиппократом. Мост этот живой, хрупкий, его надо постоянно обновлять, расширять, перестраивать. Приспосабливать к радикальным социально-экономическим переменам: развитию демократии, научно-техническому прогрессу, демографическим взрывам, нарастающим экологическим кризисам, трансформации образа жизни...
Медицина, едва возникнув в глубине веков, сразу же стала предметом всеобщего притяжения, поводом для дискуссий, источником надежд и разочарований. Ей воздавали, как богу, ее проклинали, как дьявола. Истории известны имена врачей-чудотворцев и врачей-убийц.
Эпоха, когда врачи отгораживались от непосвященных, превращаясь в касту избранных жрецов, позади, сегодня они ищут сочувствия и поддержки.
Будучи частью общества, зеркальным отражением его, медицина сумела возвыситься как ни одна другая область человеческой деятельности. Страдания и страх смерти вынуждали каждого молча принимать ее условия. Но по мере того как росла социальная зрелость общества, просвещенность и самоуважение составляющих его людей, все настойчивее становились попытки выйти из слепого подчинения медицине, не принимать с прежней безоглядностью предлагаемые ею правила отношений и средства лечения болезни, не аплодировать каждому новому ее чуду, видеть во враче обыкновенного человека, не лишенного человеческих слабостей.
Разбежавшиеся по узкоспециализированным сусекам, наблюдающие каждый день крохотный кусочек пораженного недугом человеческого тела, втянутые в шестерни бюрократической машины — писанину, отчетность, заседательскую суетню, нагруженные неподъемными нормами, или все больше лишаются возможности общения с пациентами. Медицину захлестывает перешедший из индустрии поточно-конвейерный стиль. Врачи не запоминают лица больных, больные не успевают разглядеть лица своих врачей.
В этих условиях, малопригодных для врачей, медицину выручает бурный рост ее научно-технического потенциала, союз с физикой, математикой, химией, электроникой, биологией, радиотехникой... Врачи получили такие возможности диагностики, такие средства лечения, которые показались бы фантастикой полвека полвека назад. Однако медицина, не имеющая сегодня ничего общего с той, какой она была во времена Чехова и Вересаева, за эти годы не только приобрела, но и понесла потери. В ней поубавилось беззаветного подвижничества, служения идеалам добра и нравственности, целостного взгляда на человека, который болен, страдает, но остается самоценной личностью, нуждающейся не только в пилюлях и скальпеле, но и в духовной поддержке.
Писатель-врач... Лишь одно из возможных сочетаний... На примере медицины, с которой сталкивается каждый из нас, видно, какие горизонты социальной действительности открываются взору человека, обладающего возможностью смотреть на жизнь глазами доктора и литератора одновременно. Без неизбежной ведомственной ограниченности, больно ранившей Вересаева в людях медицинской профессии. Без приблизительности, которую Чехов не хотел простить даже автору «Доктора Паскаля»: «Золя ваш ничего не понимает и все выдумывает у себя в кабинете... Пусть бы он поехал и посмотрел, как работают наши земские врачи и что они делают для народа».
Вот что я хочу подчеркнуть: широта взглядов, разносторонняя деятельность обогащает не только личность. Общество в целом выигрывает, когда мы глубже понимаем социальные проблемы. Но и приобретения отдельного человека, вступившего на такой путь, трудно переоценить.
А. И. Куприн вспоминает, как Антон Павлович Чехов, рассказывая об известном ученом, с которым связан был давней дружбой, вдруг прибавил оживленно:
— а ведь никто не догадывается, что самое характерное в этом человеке. А я вот знаю. То, что он профессор и ученый с европейским именем,— это для него второстепенное. Главное то, что он считает себя в душе замечательным актером и глубоко верит в то, что только по воле случая он не приобрел на сцене мировой известности. Дома он постоянно читает вслух Островского.
«Считает себя в душе» — и это прекрасно. Но насколько богаче умеющий многое!
Сочетание различных занятий дает повод задуматься. Ведь оно может не только изменить жизнь человека, но и преломиться в судьбе детей. Кто знает, явился ли бы миру «в божественном искусстве звуков непревзойденный мастер», как сказано на мраморной доске, прикрепленной к стене одного из старых генуэзских домов, в переулке, носящем название Черной кошки, если бы отец великого Паганини, мелкий портовый торговец, владелец лавочки, не любил страстно музыки, не играл на мандолине и скрипке, не страдал душой «от неудовлетворенного тщеславия и несбывшихся надежд?!
«Когда его скрипка запела, мне показалось, что расступаются стены зала... Какая это была пламенная игра! Я не узнавал его; так вот каков этот гениальный насмешник...» — могло ли появиться столь восторженное свидетельство очевидца, если бы «гениальный насмешник:», Альберт Эйнштейн, обожавший Гайдна, Моцарта, Баха, появлявшийся со своей скрипкой даже на заседаниях Берлинской академии наук, выступавший с публичными концертами в Соединенных Штатах, под влиянием музыкально одаренной матери с малых лет не приобщился бы к ее увлечению?!
 Круги приближения к истине. ХУДОЖНИКИ
Круги приближения к истине. ХУДОЖНИКИ

«Талант и труд все перетрут». Но что такое — талант? И какого труда он требует? Ответ кажется легким, однако академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, когда его спросили об этом во время выступления в телевизионной концертной студии Останкино, сказал на всю страну: «Что такое талант — я не знаю, но развить его в себе можно»,
В моем досье набралось несколько десятков интервью с художниками. Не только представителями изобразительного искусства, но и актерами, музыкантами, писателями, режиссерами. Беседы публиковались в разных изданиях (больше всего в газете «Известия» с 1983 по 1985 год). При некотором воображении (и обязательном соблюдении точности в ответах) получается нечто вроде «дискуссии» между художниками о целях и смысле творчества, истоках таланта. Прежде всего — что же он представляет собой?
Евгений Евтушенко: Жюль Ренар сказал, что даже в безветрие талант подобен пропеллеру, который создает ветер... И если в человеке что-то заложено, то это не им самим и не природой. Все, что есть хорошего в нас, заложено другими. Если человек предает свой талант, тем самым он предает тех, кто «вложил» в него этот талант...
Мало быть талантливым, нужно воспитывать свой талант, учить его ходить по земле, учить его быть умнее и шире, впитывать все окружающие впечатления, страдания и радости, весь огромный мир.
Нонна Мордюкова: Отчего же встречаются в нашей жизни люди, претендующие на гениальность, а на деле являющие собой уставшую посредственность? К сожалению, таких можно встретить и в искусстве.
Ролан Быков: когда-то Герцен написал: искусство убивает мещанина. К сожалению, мещанин и сам пытается умерщвлять искусство. Чем это проявляется? Хотя бы в том, что с понятием «талант» все чаще соперничает понятие «популярность». То, что не всякий талантливый человек популярен, это ясно. Популярный не всегда талантлив — вот что нехорошо! Нехорошо и когда престиж подменяет достоинство. Популярность вместо таланта, престиж без всяких достоинств – вот что страшно…
Много ли стоит дарование без идеи? Большой и достойной таланта цели творчества? Достоевский писал, что его «цель и надежда отнюдь не в достижении славы и денег». Гениального художника страшила возможность уйти из жизни, не успев полностью высказать то, что легло на сердце и душу. Он называл это синтезом своей «художественной и поэтической идеи». Как понимают свои цели художники нынешние?
Чингиз Айтматов: когда я сижу за письменным столом, то предаюсь какой-то жажде сопереживания с моим современником, желанию понять его. Я дорожу им.
Георгий Товстоногов: задача и миссия театра разбудить в человеке совесть.
Армен Джигарханян: да, театр призван воспитывать, наставлять, направлять. Но прежде всего театр призван потрясать. Потрясать! Хватать за сердце, вызывать хохот и слезы, волнения и спазмы в груди. Чтобы из театра человек выходил с просветленной душой и разумом...
Служение своему таланту — тяжкий, ни с чем не сравнимый труд. Впрочем, тот же Достоевский сравнение нашел точнейшее — с каторгой. «Я был в каторге в Сибири 4 года, – писал он,— но там работа и жизнь была сноснее моей теперешней». Федор Михайлович не без ужаса вспоминает страшные дни, когда, преследуемый издателями, вынужден был за три с половиной месяца «написать 20 печатных листов романа». Предвижу реплику: «Еще бы! Достоевский ведь гений, титан!» но разве не от каждого художника, наделенного талантом и совестью, дело требует тяжкого труда?
Вениамин Каверин: Мои черновики занимают громадные полки. И при том, что я переписываю свои работы не по восемь раз, как советовал Гоголь, а всего три-четыре. Исправляю же всю жизнь. «Два капитана» писались пять лет. А над «Открытой книгой» я работал без малого десятилетие. Бездна труда, который вложили в свою жизнь ученые-бактериологи, мои герои, стала для меня бездной изучения этого труда... Научившись по-настоящему трудиться, каждый человек на своем месте способен испытать высшее доступное человеку наслаждение.
Тамара Синявская: Каждое выступление на сцене большого театра — своего рода «коррида»... Пение доставляет и неприятности, а то и страдания. Когда у меня что-то не получается, то я ни о чем больше не могу думать, кроме одного — надо работать, чтобы получилось. И работаю... Да с таким нетерпением, что самой странно...
Художнику не чуждо ничто человеческое. И все-таки вынужденное профессиональное самоограничение, бесконечная утренняя и вечерняя занятость — репетиции, спектакли — наполняют жизнь острейшими переживаниями, подчас граничащими с отчаянием. Казалось бы, пропади пропадом такая профессия? А они... Тамара Синявская: без нее я бы не жила на свете. Оставить сцену — погасить свечи.
Армен Джигарханян: Для меня мое дело — восторг. Бывает, вечером — тяжелый спектакль, назавтра с утра хандришь, думаешь — не смогу. Потом приходишь в театр, начинаешь готовиться, входишь в спектакль, и вдруг наступает такое необычайное состояние... Поверьте на слово: восторг!
Чем же все-таки привлекает художника тяжкая его профессия? Заработки театральных актеров мизерны, доходы от концертов и кино 

 съемок — эпизодичны, непредсказуемы, не оправдывают связанных с ними моральных и физических перегрузок. Популярность? Она эфемерна, может ускользнуть еще быстрее, чем пришла. Так и случилось некогда с Людмилой Гурченко, пока не обнаружила она неожиданно для всех новые грани таланта. Новизна — в этом и отгадка! Есть в творческой жизни нечто особенное, скрашивающее тяготы, депрессии, нервные перегрузки,— перемены, непрерывное движение.
съемок — эпизодичны, непредсказуемы, не оправдывают связанных с ними моральных и физических перегрузок. Популярность? Она эфемерна, может ускользнуть еще быстрее, чем пришла. Так и случилось некогда с Людмилой Гурченко, пока не обнаружила она неожиданно для всех новые грани таланта. Новизна — в этом и отгадка! Есть в творческой жизни нечто особенное, скрашивающее тяготы, депрессии, нервные перегрузки,— перемены, непрерывное движение.
Галина Карева: вызывало меня начальство, стыдило: как вы, серьезная оперная певица, можете после академических арий петь «Очи черные»? А я защищалась: этот романс и Шаляпин, мол, пел, артист безукоризненного вкуса. (Карева 20 лет была солисткой ленинградской оперы, спела там около тридцати партий, а потом поняла: «Романс — мой истинный жанр».)
Георгий Товстоногов: борьба с внутренней рутиной — вот главное. Сохранить за собой и в себе право на риск. Без этого нельзя ничего сделать — и провалиться нельзя знак следует, в большого успеха добиться нельзя.
Сергей Залыгин: самый большой интерес представляет писать разные вещи. Но это н исключает того, что потом внимательному читателю мои рассказы, романы, повести, эссе покажутся более или менее одной книгой. В разных по сюжету и жанру вещах он скорее уловит общее, меня уловит! Мне же, повторяю, интереснее писать разные книги, и всю жизнь я к этому стремлюсь...
Ощущение новизны, питающее творчество у художника сугубо индивидуально. Подходящее для одного — совершенно неприемлемо для другого. В отличие от Каверина, скажем, у Залыгина никогда не возникало желания написать что-либо автобиографическое. Оба писателя аргументируют свою позицию, диаметрально противоположную, весьма остроумно.
Сергей Залыгин: тогда ведь придется опираться только на память. А мне хочется «опереться» на воображение. Полагаясь на память, идешь шахматные ходы, а воображение помогло кому-то придумать и сами шахматы.
Вениамин Каверин: если прежде я пользовался ключом воображения, то теперь в моих руках другой ключ — память. Тяжелый, с трудом поворачивающийся, он похож на те ключи, вторыми прежде запирали города. Как в русской пословице «Этот ключ тяжелее замка».
Андрей Вознесенский, вспомнив свое архитектурное образование, участвовал в создании монумента в Москве в честь 200-летия Георгиевского трактата — первого манифеста дружбы народов России и Грузии. Разработал он и проект шарообразного сооружения «Поэтарх», парящего над площадью, олицетворяющего, как ему представляется, идею мира на земле и мировой культуры. Об этом Вознесенский написал поэму «Поэтарх». А Евгений Евтушенко удивил многих своим перевоплощением в киноактера (сыграл роль Циолковского) и кинорежиссера в автобиографическом фильме «Детский сад». Довольно любопытно сопоставить суждения обоих писателей по поводу их новых амплуа.
Андрей Вознесенский: Архитектура для меня не профессия, а способ мышления — художественный и конструктивный.
Евгений Евтушенко: Режиссура — не профессия, а образ жизни.
Начиная с Горация, говорит первый, поэты уподобляли себя зодчим. Оды Державина представляются ему подобными гулким анфиладам барокко, Маяковский, по его мнению, похож на планировщика площадей и автострад. Хлебников, соответственно, был зодчим поэзии, а Мельников — поэтом архитектуры. Своя аргументация есть и у Евтушенко. Любой человек, по его мнению, в идеале должен быть режиссером собственной жизни и пытаться участвовать в режиссуре жизни человечества. Если же говорить конкретно о профессии кинорежиссера, то поэту она кажется универсальной: режиссер по натуре своей должен быть писателем, разбираться в живописи, в музыке, быть сам — пусть втайне — хорошим актером, тонким психологом, крепким руководителем.
Искания художника не сводятся к простейшему: новым ролям (сегодня — король Лир, завтра — председатель колхоза, послезавтра – Наполеон), новым сюжетам, новым произведениям. Не исчерпываются они и обращением к разным жанрам искусства, как у Тихона Хренникова, который пишет оперы, фортепьянные и скрипичные концерты, песни для эстрады, или у Андрея Миронова — роли в драматических и музыкальных спектаклях, исполнение песен в телевизионных шоу. Армен Джигарханян говорит о себе: «в непрерывном движении и переменах моя внутренняя жизнь, в которой я сам не очень разбираюсь». Как он относится к известной формуле «Познай себя и ты познаешь мир»? Смеется: «Нет! Если я изучил себя до конца, я уже умер».
По поводу глубинного, внутреннего движения никто не сомневается, а вот внешние перемещения не всегда воспринимаются однозначно. Это область полемики. Художник оказывается между Сциллой и Харибдой: равно опасается и окоснеть в привычном, и окунуться в болото дилетантизма.
Андрей Миронов: Может ли быть актер универсальным? Может. Не секрет, что большинство актеров, которые интересны зрителю, стараются максимально использовать свои возможности... Вот и я тоже исполняю песни...
Армен Джигарханян: Даже для себя не пою. И пока не хочется... Когда пою от имени персонажа — другое дело: это он поет. А я — ни в коем случае!
Андрей Миронов: В душе у каждого актера живет тоска по несбывшейся сокровенной роли...
Донатас Банионис: нет! Категорически нет. Я, знаете, старый театральный волк. И я вам говорю, что уповать на ту самую, заветную, — иллюзия, легенда. По себе знаю — самой любимой, заветной должна быть та роль, которую тебе сейчас дали, которую тебе предстоит сыграть сегодня на сцене. Последняя роль должна быть для мастера любимейшей и вожделенной. В этом актерская правда.
У представителя изобразительного искусства «желание поспеть всюду» (выражение президента Академии художеств СССР Б. Угарова) вызывает тревожные мысли о «скороспелом качестве», когда «актуальность подменяется конъюнктурщиной, подлинное новаторство — модным приемом, живое дело — кампанейщиной». Поиск новых форм в искусстве всегда будет продолжаться, говорит он, художник должен быть творцом, а не копировщиком, пусть великих образцов прошлого; стремление к творческому обновлению нельзя путать с погоней за модой.
Новаторство иной раз бывает сомнительным, неплодотворным. Но отсюда ли, могут спросить, серые фильмы, плохие спектакли? По моему убеждению, причина провалов чаще всего в противоположном: в отсутствии поиска, штампах. Ищущий может ошибиться, но тот, кто не ищет, проигрывает изначально.
Для художника непрестанный поиск себя столь же естествен, как смена времен года. Внутреннее ли движение, внешнее ли (композитор Н. Богословский выступает в качестве сатирика, критика, выпустил несколько книг, прозаик В. Кондратьев, снискавший себе уважение правдивыми повестями о войне, профессионально занимается также изобразительным искусством, станковой живописью, Людмила Гурченко — певица и драматическая актриса — пришла к читателям с хорошей книгой «Мое взрослое детство»)... Талант многообразен, проявления его неисповедимы.
Леонид Зорин начинал со стихов, став театральным драматургом, увлекся и кинематографом. Он автор нескольких десятков пьес, сценариев, по которым ставили спектакли и фильмы самые известные наши режиссеры, а в последние годы проза вытеснила в его творчестве все прочие жанры, издано уже несколько томов. «Думаю, что и это естественно. С годами накапливается многое, что необходимо высказать, не передоверяя героям». Критики находят перемены и в развитии другого драматурга, Александра Гельмана. Автор «Премии», «Обратной связи» перешел от проблемно-производственной пьесы к психологической драме. Но у меня самого, говорит Гельман, нет ощущения «поворота», «измены». Просто темы, которые тебя беспокоят, о которых постоянно думаешь, не могут осуществляться одновременно. Для драматурга в подобных «поворотах» ничего неожиданного нет. «Ну а что касается критиков, зрителей,— рассуждает А. Гельман,— для них пускай кажутся неожиданными, это делу не мешает, наоборот».
Случается, и мешает! Мы — зрители, слушатели и читатели — порой оказываемся неистребимыми ретроградами и консерваторами. Приговор наш часто скор и неправеден.
Булат Окуджава: Могу себе представить, как воспринимали это некоторые люди, когда я впервые появился на эстраде: все было непонятно — и стихи, и музыка, и сам исполнитель, уже немолодой и с гитарой... Многие усмотрели в этом пошлость. То и дело появлялись фельетоны, порой — оскорбительные. Кстати, именно очередной едкий фельетон и побудил Союз писателей обсудить мою книгу. Обсудили и единогласно приняли в творческий союз. Вскоре видела свет еще одна книга, пришла известность, и так — под шумок, под гитару — дело тронулось...
Человек, воспринимающий искусство, заряжается его энергией. Возвышается вместе с художником, меняется вслед за ним. В 1900 году Лев Николаевич Толстой записал в своем дневнике: «Если художник все нашел и все знает — он не действует. Только если он ищет, зритель, читатель сливаются с ним в поисках».
Гораздо реже, чем принято считать, судьба художника предопределена воспитанием в артистической среде, как у Андрея Миронова.
Махмуда Эсамбаева отец уговаривал выучиться на судью. Виртуозу танца, восхищающему своим искусством мир, не довелось даже училище окончить, всего добился собственным невероятным упорством, угадав призвание еще мальчишкой, когда отплясывал на свадьбах.
Галина Карева, дочь агронома и сельской комсомолки, была санитаркой в госпитале, ей предлагали рекомендацию в мединститут, пророчили карьеру хирурга — не послушалась, пошла в музыкальное училище.
«Никто в семье, да и в роду, насколько я знаю, не был связан с миром искусства»,—говорит Тамара Синявская, в двадцать лет дебютировавшая на сцене Большого театра в партии Ольги из «Евгения Онегина». Это потом уже — обучение в Италии, ведущие партии в «Хованщине», «Царской невесте», «Садко», «Князе Игоре», «Кармен», а начиналось все обыкновенно, с детского хора столичного дворца пионеров.
Александру Гельману, когда стал драматургом, было уже, по его выражению, «хорошо за тридцать», успел пожить в семи городах, сменить шесть профессий.
Чингиз Айтматов пахал, был секретарем сельисполкома, учетчиком тракторной бригады.
«Мое детство было нелегким,— вспоминает Нонна Мордюкова.— в нашей семье из пятерых детей я была самой старшей. Помогала матери на пахоте, сенокосе». Мать артистки – из первых женщин-коммунисток Кубани, бессменный председатель колхоза...
Пожалуй, самое важное — заметить дарование, когда оно еще едва уловимо. Скольким опасностям подвержено!
Евгений Евтушенко рассказывает, что многие были против издания книги стихов Ники Турбиной, восьмилетней поэтессы (!), ялтинской школьницы. Говорили: не испортится ли она, не зазнается ли, погубим в зачатке талант. «Я стою на другой точке зрения,— делился Евтушенко.— считаю, что этим мы поддержим не только ее, а вообще развитие детского творчества». Сам он начал печататься с пятнадцати лет. Несказанно повезло в детстве и Леониду Корину. Когда был десятилетним мальчишкой, уже имел книжку своих стихов, переводил Шиллера и Гейне, а повезло вот в чем: ребенка представили Максиму Горькому. «Разумеется, эта встреча была совершенно исключительным счастьем,— вспоминает маститый драматург.— Много детей писало стихи, мои были не лучше прочих. В памяти и душе осело: уважительный тон, который принял великий писатель по отношению к мальчику, сознание, что счастье должно быть оплачено работой. Это во многом определило жизнь, хотя и оказалось нелегкой ношей.
С детства талант отпущен природой почти каждому — об этом нам еще предстоит отдельный разговор. Пока отметим, что нередко оказывается он погребенным под тяжелыми песками, нанесенными жизнью. Кто-то пытается разгрести завалы, кто-то другой махнул рукой. Невозможно даже представить, сколько несостоявшихся художников ходит по земле. Великая армия самодеятельного творчества. И не всегда, увы, хватает мудрости, терпения, доброты в оценке мастерства непрофессионалов. Не всякий тотчас ринется поддержать, окрылить. У молодежи особенно популярны самодеятель 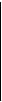

 ные музыканты. Но именно они больше всей заботят и огорчают музыкантов профессиональных. Люди театра, пожалуй, к студийцам терпимее: многие сами прошли через это.
ные музыканты. Но именно они больше всей заботят и огорчают музыкантов профессиональных. Люди театра, пожалуй, к студийцам терпимее: многие сами прошли через это.
Тихон Хренников: Образуется практически неконтролируемое царство дилетантизма. Вот где, на мой взгляд, главная опасность. Чуть ли не каждый руководитель ансамбля полагает, что способен сочинять музыку. И это, разумеется, не так безобидно, как может показаться: происходит повальная порча вкуса.
Никита Богословский: Тут я хочу оговориться: из этой категории я исключаю наших бардов — их творчество занимает особое место в палитре музыкальных жанров.
Булат Окуджава: как и я, Владимир Высоцкий в своих песнях ценил прежде всего стихи. Как мечтал он увидеть свою книжку! Не книжку даже — хоть строчку своих стихов опубликованную... Моя судьба, несмотря на «шишки», очень удачно сложилась. Это не кокетство — знаю многих людей, которым было гораздо труднее... Говорю о своем везения, ведь первая моя большая пластинка вышла ровно через двадцать лет после начала – в 1976 году...
Никита Богословский: сегодня уже довольно известны имена таких бардов, как Евгений Бачурин и Александр Дольский. У них и стихи есть получше, чем у некоторых профессиональных поэтов-песенников, а исполнительское мастерство достойно самой высокой оценки. В своих сочинениях они умеют находить новые краски, подчас даже новые гармонии и ритмы… Можно ли к Бачурину и Дольскому относиться как к дилетантам? Но, собственно, они и не претендуют на звание профессионалов. Просто люди, одаренные от природы. Наверное, есть и другие способные барды...
«Неконтролируемое море дилетантизма», так пугающее уважаемого художника, выносит на свою поверхность не только пену. В нем можно добывать и жемчужины.
Лидия Федосеева-Шукшина: В театр-студию на юго-западе я впервые пришла, чтобы посмотреть спектакль «штрихи к портрету», и была потрясена подлинностью и глубиной сценического прочтения Василия Шукшина. Мир художника был воссоздан по его рассказам, письмам, суждениям, и сделал это — и литературно и режиссерски — руководитель театра, 35-летний Валерий Белякович, так, как никому еще, на мой взгляд, не удавалось пока что. В этом спектакле я увидела и двух замечательных артистов — Виктора Авилова и Сергея Беляковича. Мне и здешний «Мольер» понравился. Дай бог нашим профессиональным театрам делать то, что на голой сцене, лишь щедро «оформленной» светом и музыкой, делают эти ребята... У них многого нет, без чего, казалось бы, сегодняшний театр немыслим, есть лишь спектакли, попасть на которые моя дочь и ее друзья считают за счастье. Да и я теперь... Что же происходит?..
Действительно, что? Да ничего невероятного, честное слово! Жил парнишка на московской рабочей окраине, в Вострякове, посещал Дворец пионеров на Ленинских горах, занимался там в «Театре юных москвичей», не попал после школы в театральное училище, пошел в ПТУ, потом —в армию, где выписывал и зачитывал до дыр журнал «Театр», после демоби  лизации опять не попал в театральное, да не в одно. «Я во всех театральных училищах, что называется, пролетел». Вы находите в этой судьбе что-либо необычное? Не десятилетний поэт, обсуждающий свою книгу с Максимом Горьким! Таких, как Валерий Белякович, тысячи — опаленных с детства искусством, отвергнутых в свое время профессиональной системой художнического образования.
лизации опять не попал в театральное, да не в одно. «Я во всех театральных училищах, что называется, пролетел». Вы находите в этой судьбе что-либо необычное? Не десятилетний поэт, обсуждающий свою книгу с Максимом Горьким! Таких, как Валерий Белякович, тысячи — опаленных с детства искусством, отвергнутых в свое время профессиональной системой художнического образования.
Поступил в педагогический, три года посещал одну из самодеятельных московских театральных студий, стал заведовать библиотекой в Вострякове, где и вырос, принялся искать артистов... Каких артистов, откуда они в Вострякове? Да просто знакомые ребята с улицы: Виктор Авилов, Михаил Трыков, Надя Бадакова, Гена Колобов. Сманил и брата своего, Сергея. Никто из них, ясно, в себе талантов не подозревал, посмеивались, но отчего не повалять дурака?
Сегодня все они — ведущие актеры Театра-студии на Юго-Западе. Это рядом с моим домом, я был там, видел «Гамлета» с Авиловым в главной роли. Не берусь передать чувство ошеломления, которое испытал. Стиснутые в крохотном помещении зрители, сидящие почти на плечах друг у друга (в бывшем складе овощного магазина, под шестнадцатиэтажным жилым домом), на скамейках, возвышающихся д потолка, аплодировали восторженно.
Доски для сцены подбирали во дворе, на стройке, добывали, где придется, кирпич, трубы, краску, сооружали театр ночами — у каждого была еще и своя работа днем. Виктор Авилов, актер, рассказывает, как возил на огромном грузовике с прицепом песок из карьера в Рублево: «Ухитрялся останавливать машину у театра и, воняя бензином, играть русские водевили, а затем вновь залезал в кабину, чтобы до утра возить песок».
Журнал «Юность» напечатал статью Валерия Беляковича (№ 3, 1986), там вы найдете поразительные подробности. Я лишь скажу, что актеры сами дежурят в гардеробе и у входа, моют сцену и убирают зал, чинят аппаратуру, шьют костюмы — все. А играют они пьесы Гоголя, Шекспира, Чехова, Гольдони, Булгакова, Шукшина, Шварца, Симонова...
Одна из зрительниц, Марина Литвинова, переводчик художественной литературы, пишет, что была поражена «искренностью, отсутствием фальши, полной самоотдачей на сцене». Ей захотелось «немедленно чем-то помочь этому театру, его актерам», взялась добывать реквизит, печь пироги «для каких-то безвестных мальчиков и девочек», как посмеивались ее друзья. «А я говорила, что театр этот — новое явление в нашей жизни...»
Вместе с Литвиновой, вслед за ней могут спросить все желающие думать: «Как рассмотрел совсем молодой в ту пору Валерий Романович в обыкновенном дворовом парнишке Вите Авилове, об искусстве даже не помышлявшем, будущего булгаковского Мольера, а затем и Гамлета?..»
Вот и задумаемся: должно ли «искать себя, пока не встретишь»?
Родники творчества — всем они доступны, но не все припадают к ним. У одних недостает понимания, у других — воли, у третьих — просто времени.
Date: 2015-10-18; view: 370; Нарушение авторских прав