
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Формула милосердия 3 page
|
|
Столь глубокие по своему социальному содержанию мысли Вересаев высказал в связи с резкими нападками медицинского мира на его «Записки врача».
Дальнейшее дробление профессий, которое наблюдаем повсюду, в том числе и в медици 

 не, усугубляет социально-психологический процесс кастовой замкнутости. Поддержка или отвержение новых идей становятся делом узкого круга хорошо знакомых друг с другом и зависящих один от другого специалистов.
не, усугубляет социально-психологический процесс кастовой замкнутости. Поддержка или отвержение новых идей становятся делом узкого круга хорошо знакомых друг с другом и зависящих один от другого специалистов.
Если нужен пример из области медицины, хотя их достаточно в прочих сферах, я сошлюсь на длительный застой в травматологии, где все высшие научные и административные должности годами принадлежали академику АМН М. В. Волкову, буквально травившему с помощью своих приверженцев курганского доктора Г. А. Илизарова, ныне всесоюзно признанного ученого и руководителя клиники, лауреата ленинской премии, и выдающегося эстонского доктора-изобретателя А. И. Сеппо, прокладывавшего в борьбе с «узкоспециальной» оппозицией новые пути в советской и мировой травматологии. Понадобилось несколько выступлений в печати, чтобы кресло под новоявленным выразителем, говоря словами Вересаева, «невозмутимого самодовольства» начало шататься.
Спрашиваю Крелина: есть ли тенденции, противоположные дроблению специальностей?
— Да, причем интересные. Все замечают, что поколение отцов не похоже на поколение детей, так всегда было, но вот мы читаем Тацита, жившего две тысячи лет назад, и думаем: ну ничего же не изменилось, все то же самое! Очень далекое — близко, а близкое — далеко. Так в поколениях. Но мне кажется, что-то подобное происходит и в процессе развития профессий. Хирурги все дальше и дальше разделяются. А математики, биологи, химики быстро сближаются. Начинают вместе с нами работать. Мы должны все лучше и лучше знать их области. Попутно размываются и недавно еще казавшиеся незыблемыми барьеры профессиональной узости, ограниченности мышления.
— Вы говорите о сближении в медицинской науке?
— Да, но и в практике тоже: математики помогают нам рассчитывать послеоперационную статистику, обобщать результаты. В хирургию все больше включается электроника. Да и вообще в медицину. Диагностирование с помощью сложной аппаратуры — это все сближение, сближение через отдаленные области. Круто разошлись, а теперь сходятся...
Примеров сближения разных дисциплин множество. Сошлюсь на доктора медицинских наук В. Н. Исаева, сделавшего открытие, в равной степени принадлежащее стоматологии и иммунологии. (Попутно замечу, что он еще, подобно Крелину, и литератор, автор многих книг, член Союза писателей.) Судьба этого разносторонне одаренного человека могла бы стать счастливой и для него самого, и для науки, если бы не «странные» нравы в медицинских кругах.
Группа стоматологов, облеченных степенями и званиями, не рискуя вступить в открытый научный спор, тем не менее взялась перекрыть Исаеву пути, организовав форменное преследование своего одаренного коллеги.
«Дело Исаева» получило огласку в печати, и теперь не только стоматологи, но и широкие круги общественности могут составить представление о том, как порой в медицине «поддерживаются и распространяются» новаторские идеи. В конце концов Минздраву СССР пришлось, публично признав критику, взять Исаева и его единомышленников под защиту.
Все это вспомнилось, когда беседовал с Крелиным. Не кажется ли ему, спросил я, что даже и общепризнанные достижения медицинской науки, не вызывающие споров, часто остаются для населения малодоступными? Не в смысле слабой популяризации их, а потому, что очень трудно получить лечение, основанное на новейших методах. Люди читают о них в газетах и журналах, бросаются к своему доктору, но у него нет таких лекарств, средств, возможностей. Часто он о них и не слышал. Еще Вересаев остро ставил такие вопросы.
— Ставил, но как их разрешить? Новинки не тиражируются мгновенно для каждой районной больницы. Журналисты кидаются на сенсационные новшества, публикуют интервью и репортажи о «горизонтах науки». Но горизонта достигнуть никому еще не удавалось. А когда новинки станут обычными, как рентген, появятся новые горизонты и опять будут недоступны для массы больных. Зря будоражим людей, вселяем несбыточные надежды. Больные пытаются пробиться в институты, недовольны отказами возмущаются своими врачами. Шумиха вредная...
В наше время любой разговор о достижениях медицины быстро сворачивает на хирургию — сердца, сосудов, легких, глаза. Хирургия расцветает все больше. У Чехова это вызывало оптиизм, он интуитивно чувствовал приближение новой ее эры. Но теперь стало ясно, говорит Юлий Крелин, что расцвет хирургии — это прежде всего показатель кризиса всей медицины. Нелепо человека лечить ножом. Аппендицит — всего лишь воспаление, тот же насморк, только в животе. Надо лечить, а не вырезать. Увы, не умеем лечить. Должна быть терапия рака, но терапевтическая онкология в зачаточном состоянии, и мы вырезаем раковую опухоль, нет другого выхода. Расцвет хирургии — симптом болезни медицины.
Слышать такое из уст хирурга — непривычно. А ведь мой собеседник прав, наверное. Действительно, значительные победы советской медицины, как правило, связаны с операциями. Бурденко, Вишневский, Спасокукотский, Бакулев, Савельев, Бураковский, Амосов, Лопаткин, Федоров, Илизаров, Сеппо...— эти имена у всех на слуху. О них говорят, пишут. Даже весьма далекие от медицины люди (впрочем, есть ли такие?) хирургов вам сразу назовут. А спроси их о крупнейших наших терапевтах... Мне казалось, все дело в «сенсационности» хирургии, обычно привлекающей журналистов и писателей. Но вопрос в другом: терапия отстает.
— Чем хуже лечим, тем больше «режем». Я, хирург, не радуюсь такому развитию событий.
— У Вересаева в его «Записках врача» много рассуждений о том, что медицина знает и чего она не знает, в чем наука и в чем не наука. У вас я прочитал в одной из новелл: медицина посредине — между искусством и наукой. Герой — врач — говорит, что медицина станет со временем наукой, искусство неизбежно отпадет, о чем лично он весьма сожалеет.
— Правильно. Я с ним согласен. Хотя далеко не всегда разделяю взгляды своих персонажей, в данном случае думаю так же. Медицина — симбиоз искусства и ремесла. Науки, строго говоря, в ней мало. Пишутся диссертации о том, что такое-то лекарство действует на такие-  какие-то процессы. Врач применил, проверил, защитился — это наука? Таких диссертаций очень много, науки очень мало...
какие-то процессы. Врач применил, проверил, защитился — это наука? Таких диссертаций очень много, науки очень мало...
Не нравится Юлию Крелину и популяризация медицинских знаний, которая, по его мнению, ничего человеку не дает.
— Вы можете сказать, что мои книги тоже в своем роде популяризация. Но я пишу о том, как врачи живут, как работают, что происходит в больнице. Никаких медицинских советов ни даю. Как лечить — знает врач, больному это ни к чему. Его отрывочная, поверхностная осведомленность, точное, наслышанность врачу мешает. Человеку не нужно знать больше простейшего: болит — иди к врачу. Иные не идут и расплачиваются за это. Кстати, часто не идут по той причине, которую и вы называли: из-за недоверия к медицине. Мы это недоверие ощущаем. Больной боится, что ему не тот диагноз поставят, не ту операцию предложат. Врачу надо верить безраздельно. Или не обращаться к нему вовсе.
Проблема доверия — здесь я с Крелиным согласен — одна из самых актуальных в жизни нашего общества. Это не только к медицине относится. Если же говорить о кризисе доверия между больным и врачом (дошли ли мы уже до этого или только приближаемся?), то тут медицине надо винить и себя. Настрадавшейся душе не внушить: «Верь врачу». Больной бы рад, однако опыт общения с медициной часто подсказывает ему противоположное: доверяться каждому, кто в белом халате, рискованно, опасно. Того гляди «залечат», и будешь мыкаться по консультантам, больницам. Слишком часто слышим мы от врачей неопределенное или противоположное, не раз нарывались на равнодушие, черствость или «замотанность» вполне компетентных и добрых докторов, которым просто некогда. Отсюда вера в разного рода целителей, небезобидное самолечение.
В книгах писателей-медиков часто встречаешься с трагическим исходом, после которого наступают, по выражению а. П. Чехова, «отвратительные часы и дни» врача: «Те отвратительные часы и дни, о которых я говорю, бывают только у врачей, и за сие, говоря по совести, многое простить должно...» Он имел в виду душевные терзания человека, оказавшегося не в силах спасти умиравшего.
Нередко и Юлий Крелин описывает разбор жалобы после столь печального исхода. Но где бы он ни происходил — в комиссиях ли при районных и городских здравотделах, у главного хирурга города или в прокуратуре, результат один — доказывается неопровержимо, что вины врача нет. Для спасения сделано все, что возможно и невозможно. Любой самый придирчивый специалист читает и соглашается: хирург прав. Родственников подтолкнуло к жалобе горе или все то же изначальное недоверие.
Почему автор в своих повестях предпочитает сюжеты о бесспорной правоте хирурга? Не показывает трагических последствий из-за недостатка опыта, самонадеянности врача? Я решил, что он делает это намеренно. Массовому читателю не обязательно знать, что в действительности происходит за плотно прикрытыми дверьми операционной. Больных не стоит волновать, а врачи как-нибудь сами поделят вину и случаи халатности в своей среде осудят.
Крелину, однако, моя трактовка не кажется справедливой.
— 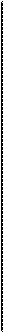
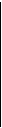 Вы исходите из того, что автор-медик непременно будет прятать «медицинские концы в воду». Это все то же недоверие, вы сами оказались у него в плену. Знаете, когда вышли мои первые книги, медики на них ужасно нападали и устно и в печати, особенно в «медицинской газете»: зачем я рассказываю правду непосвященным. Надо-де самим разбираться, а Крелин вздумал нести всю нашу «грязь» широкому читателю! Представляете? Критика прямо с противоположных позиций. Медик видит, что я иногда показываю не лучшие решения при операциях, какие-то неточности, ошибки, хотя вы их не замечаете. Но это ошибки врачей старающихся, добросовестных. Порой решения надо принимать в считанные секунды, нависает угроза смерти, хирурги делают все, что умеют, выкладываются, но при спокойном анализе, когда жизнь вне опасности, иногда соображаешь: можно было по-другому.
Вы исходите из того, что автор-медик непременно будет прятать «медицинские концы в воду». Это все то же недоверие, вы сами оказались у него в плену. Знаете, когда вышли мои первые книги, медики на них ужасно нападали и устно и в печати, особенно в «медицинской газете»: зачем я рассказываю правду непосвященным. Надо-де самим разбираться, а Крелин вздумал нести всю нашу «грязь» широкому читателю! Представляете? Критика прямо с противоположных позиций. Медик видит, что я иногда показываю не лучшие решения при операциях, какие-то неточности, ошибки, хотя вы их не замечаете. Но это ошибки врачей старающихся, добросовестных. Порой решения надо принимать в считанные секунды, нависает угроза смерти, хирурги делают все, что умеют, выкладываются, но при спокойном анализе, когда жизнь вне опасности, иногда соображаешь: можно было по-другому.
— Однако бывают, наверное, и случаи прямой халатности, вы их избегаете. Почему?
— Видите ли, показывать головотяпство мне неинтересно. Мы знаем, что есть головотяпство? Знаем. Мы знаем, что головотяпы — плохие люди? Знаем. Как поступать в таких случаях? Знаем: убрать головотяпа. О чем тут писать? Нет, мне интереснее ситуации, когда вроде бы делается правильно, а люди страдают. Проблемы нравственные, психологические.
Если бы все пишущие о медицине придерживались такой позиции, возражаю я Крелину, читателю оставалось бы предложить полную изоляцию медицины от общества, удивительную социальную стерильность: даже головотяпов в ней нет! Если в стране укрепляется порядок, пресекается коррупция, если мы ведем наступление на равнодушие, бюрократизм, то можно ли предполагать, что сфера медицины свободна от пороков? Каждому ясно, что это не так. Медицина впитала в себя и все завоевания общества, и все его исторически объяснимые недостатки. Социальная среда едина. Но о безнаказанности, зажиме критики, чинушах в белых халатах почему-то пишут мало. Вот в чем вопрос. Хочу подчеркнуть включенность медицины в общественный организм. Мера требовательности, мера критичности должна быть повсюду одинакова. Чехов, так защищавший и оберегавший репутацию врачей, тем не менее заклеймил стяжательство Ионыча, невежество Чебутыкина. А нынешние наши пишущие медики нередко весьма стараются, мне кажется, создать у общества впечатление...
—...что у них все хорошо?
— Да, все прекрасно в «медицинском королевстве».
– Я вам откровенно говорю: у нас, медиков, как и у всех, столько же хорошего и плохого. Но есть и существенное различие. Возьмем дурного или, скажем так, не самого передового врача. Так вот, если бы он был портным, милиционером, журналистом, инженером, токарем, математиком, сапожником, шофером, прорабом — кем угодно! — он, этот человек, был бы еще хуже, еще более отсталым, порочным и т. д. Сама работа медика обязывает его быть чуть-чуть лучше. Иное дело, что он все равно плохой врач, даже шкурник, халтурщик, но положение врача принуждает его приподниматься над собственной род корыстью, прятать ее, фигурально выражаясь,  под белым халатом. Но тот же самый человек сбросит халат и немедленно выплеснет наружу свое дурное. В медицине он загоняет дурное внутрь себя.
под белым халатом. Но тот же самый человек сбросит халат и немедленно выплеснет наружу свое дурное. В медицине он загоняет дурное внутрь себя.
-6-
Медиками были Рабле, Шиллер, Конан Дойл, из близких нам по времени писателей — Лем, Кронин... Юлий Крелин говорит, что по силе проникновения в психологию врача и больного наибольшее впечатление произвела на него проза дю Гара, автора «Семьи Тибо». Не врач, лишь санитарные курсы кончал в связи с первой мировой войной, однако «попадание в нерв» медицинских проблем удивительно...
Герои повестей Крелина любят иронизировать по поводу пассажей иных журналистов, неумеренно и не по делу восторгающихся «романтикой хирургического труда».
«Прав Крелин, утверждая, что ложная героика труда хирурга, прокламация его будто бы неограниченных возможностей не только противоречат истине, но и создают иллюзии, давая повод требовать от хирургов невозможное… – писал начальник клиники Военно-медицинской академии имени Кирова, хирург, профессор Т. Я. Ярьев — читатель, повышенно чувствительный, может быть, будет шокирован контрастом драматичности обстановки любой хирургической операции и «легкостью» диалогов хирургов в процессе операции. Он может быть шокирован и тем, что в этих диалогах иногда обнаруживается беспомощность хирургов, неуверенность не только профессиональная и человеческая... Все это написано именно так, как происходит в жизни».
— Мне показалось, что все ваши персонажи — один человек. Доктора у вас могут называть Борис, Женя или Мишкин, но для меня все они — Крелин...
— И для меня.
— И для вас тоже?
— Конечно! Дурное и хорошее, что есть в людях, которых я описываю, я нахожу в себе самом. И у меня умирали, мне приходилось горько. И меня благодарили, несли цветы. И мне довелось терпеть от медицинских чиновников, от нагловатых или сбитых с толку, подавленных горем родственников. Все это было, и не раз.
Мне не надо ничего «выдумывать», но в литературу, как вы понимаете, нельзя прямо перенести из жизни — будет неправдой.
— Какая из двух профессий вам более интересна?
– Не знаю... Не могу сказать... Когда я работаю хирургом, мне интересна хирургия...
—Вы могли бы одну из них оставить и полностью отдаться другой?
—Нет! Уже нет...
Больница, операция — там его любовь, душа, интерес. Медицина не просто «поставляет материалы» — характеры, сюжеты, но и обостряет чувства, ввергает в такие переживания, которые при иных обстоятельствах писатель Крелин никогда бы, наверное, не испытал. Обе профессии слились в нем, он мечтает написать об этом книгу «Пером и скальпелем».
– В отпуске вы живете и работаете как литератор. В какой степени вам удается отключиться от операционной?
– Я не отключаюсь. Думаю, что никто не может отключиться от самого себя...

Николай Амосов решил тот же вопрос иначе: «Мне так хочется додумать свои идеи. Поэтому теперь я разделяю время: три дня хирургии (по две операции), три дня — думанию и писанию, один — свободный. Если снова не «занесет». Но и это хорошо — страсть. Ощущение молодости и полноты жизни».
Хирург и кибернетик — две профессии, два разных коллектива, в которых он работает, но есть еще и третья профессия, литературная, она напрямую связывает его с миллионами людей. Николай Михайлович окончил одновременно медицинский и индустриальный институты. Два факультета было и у Вересаева, но тот в медицинский пошел, внутренне готовясь к писательскому поприщу, чтобы лучше познать человека. Для Амосова хирургия стала делом жизни, а кибернетика и литературная работа — спутниками ее.
«Если бы я был поэтом, написал бы о запахе скошенной травы на обочине, об ивах, что в небо поднимались призраками под фарами редких машин. Но красота скользила где-то в близком подсознании, а мысли были все те же: об операциях, о больных, как завтра нужно дозвониться до клиники, не отяжелел бы Сережа до моего возвращения».
Вот наконец долгожданный отпуск, радость работы за столом, но в клинике дела пошли лучше, меньше стало смертей после операций, и тут же он записывает в своем дневнике: «В общем, я окрылился и, хотя эту неделю мне полагалось быть в отпуске и писать, все отложил. Нужно оперировать, и как можно больше. Все другое –потом...»
«Будем продолжать или сделать перерыв и писать? Отпуск идет... Какое писание! Надо убедиться: случайность или закономерность. Только оперировать. И как можно больше. Сидеть самому, не доверять». То же при прямо противоположном известии: в клинике что-то нарушилось, увеличилась смертность, срочно надо разбираться в причинах... Хорошо ли с хирургией, плохо, долой отпуск — на радостях или в тревоге.
«Я начинаю эту новую книгу о своей жизни в четыре утра,— читаем мы у Амосова.— Давно кручусь в постели, принял снотворное, бесполезно, не уснуть. Повод, что лишает сна,— обычный: плохо с больной после вчерашней операции. С трудом удерживаюсь, чтобы не позволить в клинику... Боюсь, скажут — «умерла».
«Внезапная смерть. Я тоже так могу умереть. Ничего нельзя сделать»,— мучается и герой Крелина. Та самая, Чеховым отмеченная страшная для врача минута.
Врачи — такие же люди. Среди них есть натуры тонкие и черствые, воспринимающие чужую боль и замкнутые на самих себе. Не надо судить врача по придуманным «особым, высшим» меркам. Не надо? Или все-таки необходимо? Почему Гиппократ клялся «чисто и непорочно проводить свою жизнь и свое искусство»? Почему Чехов говорил о том, что «профессия — это подвиг, она требует самоутверждения, чистоты души и чистоты помыслов»?
Противоречие между тем, что мы ожидаем, и тем, что преподносит нам действительность. В эту щель врывается сквозняк раздражения, разочарования, недоверия. Но мы должны понимать, что конфликт возникает нередко и в результате нашего собственного легкомыслия, 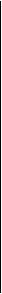




 нежелания прислушаться к голосу «другой стороны», искаженных представлений об истинном положении дел.
нежелания прислушаться к голосу «другой стороны», искаженных представлений об истинном положении дел.
Величайшее наше завоевание — бесплатное лечение — породило односторонние требования к медицине: «Для народа,— значит, для меня, должна удовлетворять любые желания». Голоса в поддержку медицины, которая поминутно терпит обиды со стороны финансистов, строителей, промышленности, публики, превратно судящей о реальных ее возможностях, раздаются не часто. Это несправедливо. Врач-подвижник может быть лишь в обществе, подвижнически заботящемся о нем.
Вспомним еще раз Гиппократа: «Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно. Поэтому не только сам врач должен употреблять в деле все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности».
Да, возможности медицины пока ограничены, да, случаются ошибки и у врачей, да, не все кончается благополучно — да, да, да! Но все-таки можно подсчитать, сесть и записать в своем дневнике: «...Знаю, что живут тысячи моих личных больных, десятки тысяч выздоровевших в клинике, в которых есть и моя доля. Одни здоровы и забыли о болезни, другие страдают и вспоминают нас» — мысль об этом дает Амосову силы, утешение, ощущение счастья. Правда, она так быстротечна, это успокоительная мысль, промелькнет — и вон, а на смену ей спешит другая: у иных хирургов сверх меры неудачных операций, но это им сходит с рук – «наша долготерпеливая государственная медицина все прощает...»
«Долготерпеливая государственная медицина» во многих публикациях прессы выглядит синонимом благополучия, авторы присуждают ей знак высшей степени добротности. Если бы это было так, не возникло бы недоверие людей к медицине.
Что мешает поставить оплату труда врача в прямую зависимость от его авторитета, частоты обращений к нему? В первую очередь это касается поликлиник, где можно было бы отказаться от обязательного закрепления пациентов за определенным врачом, дать им возможность выбирать не только в пределах одного медицинского учреждения, но и района, города; регистрировать число больных и соответственно платить врачу в зависимости от того, сколько было к нему обращений. Тот, к кому пришло тридцать человек, зарабатывал бы значительно больше того, кого предпочитают обходить стороной.
Не исключено, что следовало бы разработать более гибкую систему хозрасчетных отношений между населением и медициной. Почему только поликлиники? Разве не могут на этой основе существовать массажные кабинеты, иглотерапевтические клиники и центры лечебной физкультуры, городские и загородные лечебницы курортного профиля для выздоравливающих больных, наконец, и просто хозрасчетные больницы?
Некоторое соперничество между хозрасчетной медицинской сетью и бесплатными учреждениями системы здравоохранения было бы на пользу и больным и врачам.
 Вероятно, теми же причинами, что порождают обезличку и равнодушие, объясняются недисциплинированность, а также многие чисто хозяйственные, бытовые неполадки в работе лечебных учреждений, нервирующие персонал, возмущающие больных. «И еще масса рутинных, чаще неприятных дел,— пишет Амосов. На пятом этаже сестра пришла пьяная, больные отказались от инъекций, боялись, что отравит... В реанимации уже пятый месяц добиваются, чтобы поставили кран в умывальнике. В операционной было очень жарко — заведующая Зоя, врач, никогда не проверяет свои владения утром... Там — жарко, там — батареи холодные, и родственники принесли камин, может быть пожар... Бактериологические посевы в новой операционной плохие, значит, была плохая уборка...» Он добавляет еще нехватку в клинике кислорода, нужных лекарств. Однако «наша долготерпеливая медицина» все прощает. Возникает вопрос: кому именно? Самой себе? Не только, еще и обществу, которому она вправе предъявить немало претензий по поводу бытовой своей неустроенности, но предпочитает молчать.
Вероятно, теми же причинами, что порождают обезличку и равнодушие, объясняются недисциплинированность, а также многие чисто хозяйственные, бытовые неполадки в работе лечебных учреждений, нервирующие персонал, возмущающие больных. «И еще масса рутинных, чаще неприятных дел,— пишет Амосов. На пятом этаже сестра пришла пьяная, больные отказались от инъекций, боялись, что отравит... В реанимации уже пятый месяц добиваются, чтобы поставили кран в умывальнике. В операционной было очень жарко — заведующая Зоя, врач, никогда не проверяет свои владения утром... Там — жарко, там — батареи холодные, и родственники принесли камин, может быть пожар... Бактериологические посевы в новой операционной плохие, значит, была плохая уборка...» Он добавляет еще нехватку в клинике кислорода, нужных лекарств. Однако «наша долготерпеливая медицина» все прощает. Возникает вопрос: кому именно? Самой себе? Не только, еще и обществу, которому она вправе предъявить немало претензий по поводу бытовой своей неустроенности, но предпочитает молчать.
Конечно, чего не случится в огромной амосовской клинике, где работают 800 человек, где ежегодно делают свыше 2000 операций на сердце, в том числе более 800 — с аппаратом искусственного кровообращения, но и в маленькой участковой поликлинике вы обнаружите частенько те же самые «рутинные, чаще неприятные дела». Выражаясь социологическим языком, однородная система проявляет себя повсюду одинаково — и в большом и в малом, и в громких победах и в тихих безобразиях. Поэтому Амосов вправе сделать обобщение: «человек должен драться за свою правоту. В нашей медицине это не принято. Слишком большая зависимость». Он, конечно, имеет в виду зависимость и друг от друга, и от начальства.
В отношениях между больным и врачом, медициной и обществом переплелись бытовое и профессиональное, болезненное и обезболивающее, раздражающее и героическое — проникли друг в друга, проросли неразрывно. В той же реанимации, где пятый месяц не могут добиться крана в умывальнике, на том же этаже, где осмелилась появиться пьяная медсестра, происходят поразительные вещи.
Вот везут из операционной скрипящую, несмазанную кровать и «анестезиолог на ходу массирует сердце, его помощник проводит искусственное дыхание портативным дыхательным аппаратом». Вот привезли, подключили к стационарной аппаратуре, приладили капельницу и опять начинают массировать. «тяжелая ра6ота, через пять минут нужна смена, отходят потные. Иногда это длится часами».
Остановилось сердце! Я привык считать, что это конец. Нет, оказывается, до последнего пытаются запустить. Массаж — электрический разряд, массаж — еще разряд, опять массаж — и снова разряд! «Не помню уже, на какой раз сердце пошло. Эти полчаса показались вечностью…»
И такая у нас есть медицина! Хочется низко поклониться ей.
В качестве больных мы раздражительны, требовательны, обидчивы, повышенно чувствительны к ошибкам медиков. Мы беспощадны к врачу, когда он, в самую тяжелую свою минуту 
 должен стоять «раздавленным перед взглядами родственников». Но будем же и объективными к людям, сжигающим свою жизнь ради нашей. Добрым словом вспомним не только хирургов, но и анестезиологов, которые участвуют в спасении не меньше, чем хирурги, и которым больные «не то чтобы цветы, редко когда скажут «спасибо». А помимо анестезиологов еще и тех, кто нас к операции готовил,— врачей и сестер, тех, кто консультировал, ставил первичный диагноз, передавал нас, как эстафету, из рук в руки. Душевно поблагодарим всех причастных к нашему выздоровлению и в их лице — медицину.
должен стоять «раздавленным перед взглядами родственников». Но будем же и объективными к людям, сжигающим свою жизнь ради нашей. Добрым словом вспомним не только хирургов, но и анестезиологов, которые участвуют в спасении не меньше, чем хирурги, и которым больные «не то чтобы цветы, редко когда скажут «спасибо». А помимо анестезиологов еще и тех, кто нас к операции готовил,— врачей и сестер, тех, кто консультировал, ставил первичный диагноз, передавал нас, как эстафету, из рук в руки. Душевно поблагодарим всех причастных к нашему выздоровлению и в их лице — медицину.
Однако и она, медицина, пусть не обижается на нас, когда в других, непохожих случаях мы будем к ней суровы и критичны.
Мост между медициной и обществом не будет держаться на опоре, укрепленной лишь на одном — медицинском — берегу.
Этот мост не для увеселений, прогулок и флирта. Движение здесь всегда вынужденно и небезопасно. А потому всякий, кто ступил на него, должен быть внимателен.
«Больной, умерший в среду на столе, погиб от того, что в устье левой коронарной артерии попала нитка. Толстая шелковая нитка длиною сантиметра четыре с узлом». Это обнаружилось на вскрытии. Тысячи сложнейших операнд ни разу в коронарные артерии не попадала нить, и вот...
«Любой непосвященный, даже хирург, не видевший этих напряженных операций, скажет — халатность. Нитку при обрезании нужно выдергивать и отбрасывать от операционного поля».
Согласимся и мы — халатность, хотя Амосов и ссылается на «смягчающие обстоятельства». Впрочем, хирург отлично понимает, что все они лишены смысла. Ничего не могут смягчить, оправдать. «Смерть по вине хирурга». Так и объяснил на конференции, так и записал в карточку.
Зачем Н. М. Амосов публикует свои откровенные записки? Среди причин он называет и такую: «Пусть люди лучше поймут и оценят медиков».
Не этим ли стремлением к взаимопониманию продиктованы и «Записки врача» Вересаева, и многие страницы сочинений Чехова, его письма?
В книге «Доктор А. П. Чехов» Шубин пишет, что чеховская проза лучше многих специальных журналов и книг тех лет показывает, какие медицинские проблемы занимали помыслы людей на заре нынешнего века. В произведениях Павловича рак упоминается трижды, причем смерть от него героя рассказа «Крыжовник» осталась лишь в первоначальных замыслах Чехова. Злокачественные опухоли обычно подстерегают людей немолодого возраста, но в конце ХХ века средняя продолжительность жизни в России составляла чуть более 30 лет. А лечение в шестьдесят лет, говорит доктор Дорн из «Чайки», следует рассматривать как поступок весьма легкомысленный. Что бы сказал этот чеховский доктор, если бы вел прием в современной нашей поликлинике, где пожилые составляют большинство пациентов! Человек в СССР в среднем живет около 70 лет.
Гораздо чаще, по данным Шубина, в произведениях Чехова упоминается заболевание героев туберкулезом. Чахотка, пишет он, была  самой распространенной болезнью и занимала первое место среди причин смерти. Даже эпидемия холеры 1892 года, в борьбе с которой принимал личное участие доктор Чехов, унесшая в России около 300 тысяч жизней, принесла меньше бед, чем туберкулез. У нашего современника есть все основания оптимистично сказать: «Старшее поколение... постепенно, забывает, а младшее не знает такие болезни, как тиф, чума, холера, оспа, которые, по меткому выражению Герцена, были «домашними» в России».
самой распространенной болезнью и занимала первое место среди причин смерти. Даже эпидемия холеры 1892 года, в борьбе с которой принимал личное участие доктор Чехов, унесшая в России около 300 тысяч жизней, принесла меньше бед, чем туберкулез. У нашего современника есть все основания оптимистично сказать: «Старшее поколение... постепенно, забывает, а младшее не знает такие болезни, как тиф, чума, холера, оспа, которые, по меткому выражению Герцена, были «домашними» в России».
Увы, сам Борис Шубин умер от болезни сердца...
Врачу и его пациенту надо прекратить бесплодный взаимный счет, без предвзятости смотреть в лицо друг другу
С чего же начать нам перестройку в столь ранимой, не поддающейся поверхностному экспериментаторству области, как охрана здоровья? Что следовало бы предпринять безотлагательно? Прежде всего, на мой взгляд, признать реальное положение вещей. Не впадая в пессимизм, не перечеркивая сделанного (а сделано
много), пробиться сквозь нагромождения бодрячески-примитивных восторгов («Ах, как далеко шагнула наша медицина!») к правде, сколь горькой она ни оказалась.
И тогда мы увидим очереди к врачу, увидим страждущих, берущих приступом органыздравоохранения в надежде попасть в клинику, койки в больничных коридорах, бесплодные попытки докричаться до нянечки. Гласная и откровенная оценка истинных достижений и бед «всесоюзного цеха здоровья» высветит почти сиротскую необеспеченность медицины, особенно нетерпимую на фоне публичных признаний ее роли и заслуг; нередкую раздражительность и грубость персонала — следствие дефицита кадров, коек, лекарств; ответную раздражительность и грубость больных и их родственников, поборы, социальную несправедливость, недопустимую везде, а в отношении здоровья тем более безнравственную; постоянное и настойчивое желание медицинских властей вывести учреждения и кадры своего ведомства из-под критики, неосведомленность общества о выводах медицинской статистики, бюрократизм, разъедающий душу милосердия.
Date: 2015-10-18; view: 359; Нарушение авторских прав