
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завещание старого ОРЛА
|
|
Физик — переводчик — полиглот: познание воли и воля к познанию

Если бы Валерке Илющенко сказали, что он будет читать по-японски, он бы, наверное, приложил палец к виску, покрутил и огрызнулся – «от психа слышу». А то и дал бы как следует, хотя били чаще его самого — за несговорчивость, непохожесть, за то, что слишком умник, за то, что пришлый, и за просто так.
В деревню он угодил случайно. Хотя время было такое, что людей потяжелее, чем он, подхватывало ветром и несло через степи и моря, рвало на части, превращало в ничто. Мать успела выскочить последним эшелоном, уходившим из Крыма. Валерка «выпал в осадок» в Саратове, где у матери не обнаружилось никаких бумаг о том, что она офицерская жена. Пришлось мыкаться обыкновенной беженкой, отскребать черные полы, обстирывать пол-улицы, мучительно соображать, что бы такое сунуть орущему Валерке в рот. Наверное, не выкарабкаться бы ему из передряги, но бог милостив и решает, где подбросить кувшин.
Полоская на речке белье, мать стертыми до крови руками разгребла мутное глиняное горлышко, показавшееся из песка, принесла домой. Золотые монеты старорежимной чеканки поблескивали темноватой желтизной, холодили пальцы и требовали учета. Она безнадежно пыталась сообразить, почем выйдут, скажем, тридцать шесть самых больших, с орлами, в переводе на керосин, дрова, хлеб и сало, пальтишко и валенки для Валерки?..
Каким-то образом они оказались затем в Закавказье, перебравшись к месту службы разыскавшего их отца, но начались семейные передряги, вмешалась бабушка, отобрала Валерку у обоих родителей и увезла в деревню. Была он инвалидом, не могла нормально передвигаться костыляла кое-как. Но волю имела железную голову светлую и доброе сердце. Из тех крестьянок, на ком белый свет держался испокон века, и, сможет ли держаться без них, еще не известно. Валерке, уже «вполне взрослому», пятилетнему, бабушка сказала: «Кормить буду, а как тебя учить и что из тебя получится, в толк не возьму». Грамоты она не знала, писать не умела
Так началась его жизнь в Ново-Николаеве Приморского района, что под Керчью.
Года через три, когда есть стало нечего, кроме лебеды и крапивы, и страшный недород опять сделал Валеркино существование на грешной земле проблематичным, мудрая бабушка Татьяна Сидоровна отправила его на прокорм к последней, младшенькой своей дочери, Клаве, работавшей в керченском детсаду воспитательницей. Подпитанный теткой, Валерка вернулся бабушкин дом поступать в сельскую школу. А тети Клавино побитое оспой лицо будет вспоминать он с тех пор как лицо Джоконды, само прекрасное на свете, и понесет через всю жизнь преподанный ею урок сострадания. Первые детские воспоминания переплетутся с другими, более поздними. Но этот рассказ впереди...
Бабушка совсем ослабела, и Валерка рос сам по себе, как почти все растет в деревне. В школе директор смотрел на него грустными глазами и предлагал заняться немецким. Но «фрицевский» этот язык Валерка презирал, и слова директора, влетая в одно ухо, тотчас же вылетали у него из другого. Ново-николаевская улица делала предложения куда более привлекательные. Можно было мчаться с рогаткой, бить стекла, драться, ловить рыбу, воровать абрикосы, собирать по обвалившимся окопам и балкам оружие, сумки и ящики с патронами, стрелять из наших и фашистских пистолетов, винтовок, даже автоматов по бутылкам или развешанным на деревьях бумажкам, рвануть на пустыре гранату, подбросить зажженный трубчатый порох в клуб и давиться от смеха, глядя, как он шипит, подпрыгивает, распугивая людей...
Уже трех соседских ребят, забавлявшихся миной, на Валеркиных глазах разорвало в клочья. Уже до крайней черты дошли их отчаянные забавы: у гранат выдирали чеку, пальцами прижимая пружину,— кто больше выдержит? Чем это кончиться могло?
Директор после долгих, терпеливых внушений принял наконец решительные меры: отправил Валерку в Артек.
Директор знал, что война пораскидала, поубивала отцов, и пацаны вперемежку со своими дикими выходками работают в поле, пасут коров, возят на лошадях зерно, чистят колодцы; и Валерка в огромных резиновых сапогах, дрожа от страха, обвязывается веревкой и спускается с ведром по скользким вонючим стенам в сырое нутро колодца, откуда подает наверх дохлых сурков, кошек, ржавые обрезы, а то и че 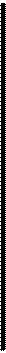 ловеческие останки в надежде, что родничок слабый, и удастся, опередив его, выгрести тухлую воду до дна; что прямо за деревней кладбище танков, а поля усеяны взрывоопасными предметами, и нет никаких сил оградить от них подростков... Директор знал все это, но Валерка, пораженный, сбитый с толку, ничего не мог понять: почему его, отпетого деревенского хулигана, как примерного ученика отправляют в знаменитый Артек?
ловеческие останки в надежде, что родничок слабый, и удастся, опередив его, выгрести тухлую воду до дна; что прямо за деревней кладбище танков, а поля усеяны взрывоопасными предметами, и нет никаких сил оградить от них подростков... Директор знал все это, но Валерка, пораженный, сбитый с толку, ничего не мог понять: почему его, отпетого деревенского хулигана, как примерного ученика отправляют в знаменитый Артек?
-2-
Если бы грузчику керченского холодильника Валерию Илющенко сказали, что он будет читать по-японски, подивился бы жестокости людей — насмехаются над несложившейся жизнью.
Не прошел по зрению в авиационное училище, лопнула мечта стать летчиком-истребителем, которая созрела у него в седьмом классе и привела в Краснодар, где, слышал от ребят, есть какая-то чудная 12-я спецшкола, мальчишки) ходят в кителях, фуражках и брюках с кантами, называя себя «спецами»...
...Мы тоже называли себя «спецами» и носили брюки с кантами, только с красными, а не голубыми, и в петлицах у нас были перекрещенные стволы, а не «крылышки», как у них, и потому были они «керосинщиками», а мы, в отместку, «фитилями»... Ничего не слышал я 12-й краснодарской спецшколе, но пять московских спецшкол — три артиллерийских (я был во 2-й), военно-воздушная и военно-морская, в сентябре рыли противотанковые рвы, а в ночь на шестнадцатое октября мы шли через весь город с узлами, собранными в неведомую дорогу...
Меня и собирать-то было некому. Мама, уже не встававшая с постели, тяжело больная, умоляла взять ватное одеяло, потому что в Сибири ужасно холодно, полкило колотого сахара и полкило пшена, потому что в доме больше ничего не было, а самое главное — мешочек с солью, потому что о ценности ее помнила еще с гражданской. Мне было, как и Валерке, четырнадцать, я плакал и целовал маму, которую с тех пор больше не видел, потом подхватил весь этот скарб и потащился на Кропоткинскую, в свою спецшколу, располагавшуюся рядом с нынешним музеем А. С. Пушкина.
Отец сутками не вылезал с авиационного завода, готовившегося к срочной эвакуации, Лиля и Галя, сестры мои, дежурили в госпиталях, и больше не с кем мне было проститься. Но Галка в последнюю секунду возникла вдруг на пороге дома, отпущенная на два часа. Мы добрались пешком до метро «Сокол». Двери станции были наглухо закрыты, поезда не ходили, и она втиснулась кое-как в набитый троллейбус, а я пристроился сзади на лесенке, рядом с веревками, за которыми тянут дуги водители...
И было прощание с Галкой, которую я тоже с тех пор больше не видел, она мне почему-то подала руку, хотя я отроду ни с кем еще за руку не здоровался и не прощался, потом обняла, расцеловала и убежала в свою казарму, откуда утром — на фронт... Смущенно оглядываясь — не заметили ли ребята? — я вытер рукавом девчоночьи слезы со щек... Потом пришел треугольник от неизвестного старшего лейтенанта, ее друга. Ночью, на трехэтажных жарах, читал и перечитывал я этот треугольник. Там сообщалось, что за Вислой, под Сандомиром,.. Слезы душили меня, но пятый наш взвод дружно храпел, и никто ничего не слышал...
Галка убежала, а мы ждали, ждали до ночи, но машины так и не прибыли, и нам велели идти с Кропоткинской на Казанский пешком. Я плелся, сгибаясь под тяжестью роскошного маминого ватного одеяла, потом в отчаянии бросил его на мостовую, где уже лежал чей-то баян, а дальше попадались мне узлы и чемоданы до самой Ленинской библиотеки: колонна рассыпалась, растянулась, в кромешной тьме московской светомаскировки мальчишки не могли узнать; друг друга, бросали что только можно и шли в неизвестность.
Я выбрел на голос, истошно кричавший: «Стой!..» «Стой!..» Несколько наших спецов пытались заполучить место в грузовике. Один из них, Володька Разин, побежал искать взрослых; военных и вскоре привел откуда-то капитана, оказавшегося бессильным нам помочь. Капитан стал посреди движения с пистолетом, даже выстрелил дважды вверх, но машины, груженные узлами и людьми, мчались, не обращая на него; никакого внимания, он едва успевал отскакивать в сторону. Потом снял фуражку, вытер тыльной стороной ладони мокрый лоб и, сказав: «Все, ребята, я пошел», скрылся во тьме.
Какие-то женщины катили мимо нас коляску со скарбом, на которой сидел укутанный в платок малыш... Двери соседнего магазина бы. распахнуты, мы вошли, в зале никого, товар: валялись в беспорядке на полках и полу, но не было сил их рассматривать или что-то брать.
«Спецы! — сказал Володька Разин.— Сколько нас? Пятеро? Айда в метро, и в случае чего — по тоннелям...» В каком случае и куда «по тоннелям», мы допытываться не стали, а покорно пошли за новым нашим командиром.
Полы на станции были забиты женщинами и детьми, малышня ревела, просила пить, к нам кинулся милиционер, не сменявшийся, как выяснилось, вторые сутки,— единственный здесь представитель власти, обрадовался, что мы в форме, расставил по постам, велел помогать женщинам, поить детей. До рассвета дежурили вместе,
А рано утром тот же бессменный постовой сообщил нам о телефонограмме насчет ожидающегося пуска поездов. Мы подарили ему книгу с видами Москвы, и Володька Разин написал на обложке, а все подписались: «Единственному милиционеру, не оставившему свой пост на станции метро «Библиотека имени Ленина» ночью 16 октября 1941 года, от учащихся 2-й Московской специальной артиллерийской школы».
Добравшись до Казанского вокзала, весь день еще ждали на сортировочной станции, пока подтянутся заблудившиеся в ночи, а с темнотой, когда опять началась воздушная тревога, «дернулся поезд, поплыли вперед, ход ускоряя, телячьи теплушки»... Где-то в сырой земле спит вечным сном автор этой баллады младший лейтенант Исаченко, парень из той разинской пятерки, дежуривший с нами в метро, знаменитый наш спецовский поэт...
Длинный, длинный список имен погибших спецов на мраморной доске музея в том самом здании — на Кропоткинской. 
 ...
...
У меня сжалось сердце, забилось пониманием, сопричастностью, когда услышал: он спец был, принадлежал к неописуемому нашему братству, Валерий Илющенко, спец! Хотя, конечно, не в те годы, и всего лишь «керосинщик», а не «фитиль»...
Когда он перешел в последний класс («то есть в первую роту, чтобы вам было понятно», а у нас называлась «первой батареей», но я, разумеется, понял), вышел приказ о роспуске военных спецшкол. «Потешные войска Наркомпроса», как мы себя называли, в новых условиях оказались без надобности.
Валерий уехал доучиваться на станцию Поспелиха в Алтайский край, где отец теперь служил военкомом. И чем ближе к выпускному балу, тем неопределеннее представлялось ему будущее. Невесть откуда взялась близорукость перечеркнула мечты об авиационном училище, полетах.
Что можно было придумать, сидя с аттестатом зрелости в полузабытой богом Поспелихе? Листая справочник для поступающих в вузы, он сделал величайшее открытие: оказывается, Москве есть университет! И если, выяснилось в самой Москве имеется университет, то чего же еще выбирать? Вмиг собрал пожитки, взял билет и отправился поступать на физфак.
Еще во второй роте (в девятом классе) спецшкольный физик по прозвищу Факир показался ему человеком необыкновенным. Увлек и покорил, как меня покорил учитель литературы, приходивший к нам на урок с огромным, набитым «вещмешком», из которого вынимал и клал на стол сначала револьвер (в артиллерийской спецшколе военной поры преподавателя полагалось оружие носить на ремне, но учитель наш был по характеру человек сугубо штатский, белобилетник, освобожденный по здоровью от действительной службы, кобуру надевать не любил), потом гору книг, прихваченных из собственной библиотеки, наконец, старенький, видавший виды патефон...
Учитель, не обращая на нас внимания, ставил на вертящийся круг пластинку с романсом Даргомыжского или музыкой Глинки, молча отходил к окну. Мелодия погружала в неведомое, непохожее на все, что окружало нас,— казарму, где яростно скребли полы, авралы на угольной шахте; концерты для раненых в соседнем госпитале; ночные учебные тревоги с марш-бросками километров на двадцать, а наутро уроки; танцы, куда торжественно приглашались старшеклассницы из соседней женской школы, и где посреди танго «Утомленное солнце», вырубив его, Володька Разин, мой закадычный друг и начальник школьного радиоузла, кричал из динамика срывающимся голосом: «Ребята, наши войска взяли Киев!», после чего мы бросали своих партнерш, орали: «Ура!», неслись шумной гурьбой к большой, утыканной флажками карте...
«Знаете, — говорил учитель, снимая затертую пластинку, прослушанную с двух сторон,— история этого романса поразительна. Однажды в Петербурге зимой...» — и все близлежащее пропадало, мы уже не слышали звонков, извещающих об окончании урока. Мы были молодыми петербургскими повесами, плели при ночных свечах тайные заговоры, мчались в карете с бала, зачитывались рукописными стихами, дрожавшей рукой вскрывали надушенный конвертик от княжны Н., упивались лицейской дружбой, поклонялись Пушкину, ненавидели Бенкендорфа... О, как он умел пленить наши души, Семен Абрамович Гуревич, тогда — тридцатилетний словесник, а к концу жизни — выдающийся педагог, заслуженный учитель школ РСФСР. Необыкновенный учитель!
Да и может ли обыкновенный, потеряв в войну уникальную библиотеку, снова собрать десять тысяч томов, с множеством раритетов, чтобы открыть ее для любознательных воспитанников? Может ли обыкновенный десятилетиями хранить сочинения учеников, следить за судьбой их, дружить с ними? Может ли обыкновенный, став, как написал о нем президент Академии педагогических наук М. И. Кондаков, «одним из лучших учителей литературы Москвы», на склоне лет с такой благодарной нежностью вспоминать своих собственных педагогов: географа, приучившего добывать сведения о миря не из учебника географии, а из справочников, музеев и книг знаменитых путешественников физика, для которого наглядным пособием служило все: сквозняк в коридоре, кляксы на промокашке, зайчик, пущенный зеркальцем озорника?.. Может ли обыкновенный приглашать на урок к своим воспитанникам Всеволода Вишневского, Льва Кассиля, Константина Паустовского, Александра Серафимовича, Александра Фадеева, знаменитых актеров — Качалова, Явя шина, Боголюбова, хирурга Бурденко, академика Соболева?..
Какое везенье, какое счастье, что я оказался его воспитанником! И кто знает, может быть, и обо мне вспомнилось старому учителю в ту минуту, когда рука, не без труда удерживающая уже перо, вывела па листке рукописи последней его книги: «Среди тех, кто у меня учился, печатаются более трехсот человек»...
...Валерию запали в душу уроки Факира, спецшкольного физика, «в высшей степени оригинального человека», и он ринулся на физфак МГУ, не слушая ничьих резонов. Отец, друзья отговаривали, предупреждали, пугали: «Кто тебя там ждет? Смешно сказать — из Поспелихи!» Он помахал с подножки вагона рукой, лег на верхнюю полку и закрыл глаза... У него не было и тени сомнений.
На Ленинских горах спросил у первой попавшейся девчонки: где принимают вновь прибывших? Сдал экзамены, но не хватило одного балла. Пришлось ждать решения мандатной комиссии. Долго ли? «Потерпите, объявят». Занервничал, сорвался, взял документы — и к тете Клаве. До Керчи лежал, отвернувшись к стенке. Куда тебе с немытым рылом в МГУ! Из Ново-Николаевки, из Поспелихи...
Пришел в отдел кадров рыбокомбината, нанялся грузчиком на льдозавод. Показали работу: в рассол ставится металлическая камера с пресной водой, соленую охлаждают до минус четырех, а пресная превращается в лед. Сбрасываешь на опрокидыватель — выскакивают чушки конусообразной формы. Хватай руками и тащи. Дали проолифенную робу, рыбацкие сапоги. Но вода есть вода, к концу смены — мокрый насквозь. Чушки тяжеленные. Грузчику семнадцать лет. «Пора любви и страсти нежной». В его возрасте Онегин «по-французски совершенно мог изъясняться и писал»...
Где ты, ново-николаевский учитель? Почему не внял я твоему совету, не выучился немецкому? — тоскливыми ночами вопрошал он себя. Где спецшкольная «немка», фронтовая разведчица, оставлявшая одного после всех занятий зубрить военный разговорник: «Кто вы такой? — Мне надо пройти в деревню.— Русский партизан? — Нет, я ищу потерявшуюся корову». Где всамделишный немец Поспелихи Андрей Андреевич, или Генрих Генрихович, смотря по обстоятельствам, в зависимости от того, кто обращался — здоровый рыжий мужик, отец приятеля, учитель? Черт побери, почему тогда не увлекся языком, лишь из вежливости, соглашался читать Гейне на вечерах самодеятельности? Ох, как он слушал, Андрей Андреевич — Генрих Генрихович! Приходил в состояние экстаза, горел, шептал вслед за своими «артистами» каждую строчку. Почему, почему не занимался как следует?
Он не был богатырем, но спецшкола дала крепкую встряску. Физподготовка, гимнастика, марш-броски с полной выкладкой. (Еще бы, спецуха давала жизни! Мне самому, когда летел с выпученными глазами, разбегаясь в прыжке через «коня», физрук орал под хохот всего взвода: «Запомни — бога нет!») Эта закалка добром не раз помянута была им на керченском холодильнике, когда тащил онемевшими руками мокрые ледяные чушки.
С бригадиром ему повезло. Дядя Вася, грузчик из челкашей, пятнадцать лет отмахал на льду, но не стал, по вересаевскому выражению, «ледяной блохой», которая в глазах писателя-врача символизировала противоположный интеллекту полюс. Дяде Васе скрючило руки ревматизмом, ныли кости, но он держался, вечером подрабатывал слесарем. Был умен, имел жизненную задачу, которую объяснял так: «В молодости гулял, вольно жил, любил красавиц наипервейших, славился среди всех грузчиков керченского порта. Женился поздно. А когда дети пошли, для себя решил: всю жизнь поднимал ты, Вася, тяжести несусветные, так неужто не поднимешь тобою сробленных малышат из грузчиков в люди?»
Давай-ка, паря, закругляйся, пока не поздно, говорил он Валерию, пропадешь ты здесь ни за понюшку табаку даже, а за кусок скользкого льда, и останется от тебя мокрое место. Хорошую работу советовал, профессия верная в руках, умственное дело: грузчиком Керченского порта. У людей на виду. При механизме. И опять же — сухой!
На курсах обучили его за месяц. Сел за рычаги портального крана. Получил квалификацию крановщика третьего класса морского регистра. Кран электрический, трехтонный, венгерский. Экипаж крепкий. Мужики трезвые.
Жил у тети Клавы, и ни слова от нее, ни упрека. Когда бабушка отправила его сюда на прокорм, расстроил он Клавину свадьбу, единственный, можно сказать, серьезный шанс. Молодая, в общежитии жила — и с ребенком. Жених не верил, что чужой. А время послевоенное неласковым было к женщине, мужиков поубивало, каждый на вес золота. Как же могла она, тетя Клава, перечеркнуть из-за новониколаевского сорванца свою судьбу? Не отказалась, не отправила в деревню обратно, не  сдала в детдом? Мальчишкой не понимал, позже дошло. Гораздо позже, не в семнадцать лет. В семнадцать с получки научился пить, приходил под градусом. Могла бы хоть по-житейски поругать, укорить. Ни слова, ни звука...
сдала в детдом? Мальчишкой не понимал, позже дошло. Гораздо позже, не в семнадцать лет. В семнадцать с получки научился пить, приходил под градусом. Могла бы хоть по-житейски поругать, укорить. Ни слова, ни звука...
...Вы следите ли за жизненной нитью моего героя? Бабушка — сельский директор — физик Факир — учительница немецкого из фронтовых разведчиц — Андрей Андреевич (Генрих Генрихович) — дядя Вася — тетя Клава — сколько добрых людей оказалось на его пути! Встали в ряд, чтобы спасти от засухи, высушить от ливней, выходить один-единственный росток человеческой судьбы.
-3-
На физфаке МГУ, куда он въехал, можно сказать, прямо на портовом кране, понял, сколь сильно преувеличены его представления о собственных познаниях. Упорства хватило, чтобы пройти барьер приемной комиссии, но обнаружился колоссальный разрыв между школой (не Поспелихой, а всей нашей средней школой) и университетом в точных науках, особенно математике. Да и физика оказалась не такой, какой смотрелась из Алтайского края. По популярным книжкам выходило, наука не без приятности. Тогда был самый бум. Кажется, это прошло совсем или быстро проходит, но в конце пятидесятых Валерия Илющенко и его друзей по «общаге» волна «физического энтузиазма» поднимала на самый гребень.
Однако с этого момента нас будет интересовать не погружение молодого ученого в глубь атомного ядра, не сама по себе работа его в лаборатории академика Флерова, в знаменитом международном ядерном центре в Дубне, не премия Ленинского комсомола, полученная им за открытие и исследование изотопов дальних трансурановых элементов, не кандидатская диссертация, не поиски в других перспективных направлениях физики, которые, вполне может быть, приведут к новым открытиям, а, наоборот, все то, что, казалось бы, от физики уводит его в сторону.
Мы подошли к развилке жизненной судьбы, когда вот-вот покажется из земли, прорежется стебелек новой профессии Валерия Илющенко, профессии, которая увенчает необыкновенную его волю к познанию и познание собственной воли.
А знаете ли, читатель, на что способна ваша собственная воля? Испытывали ли вы ее когда-нибудь?
Люди привычно говорят: смогу, если захочу... Но часто, очень часто почему-то они не хотят бросить курить, оставить другие дурные привычки, регулярно заниматься спортом, соблюдать собственноручно выработанный режим, перетерпеть боль, перебороть несчастье, твердо держать слово, соблюдать диету, переделать характер, достичь ближайшей и дальней цели, выстроить жизнь...
Талант рождается с нами, волю приходится тренировать. Даже обычный труд — это приказ себе быть внимательным, усидчивым, не отвлекаться, не расслабляться, не хныкать, превозмочь усталость, добиться результата. Самоотдача — воля, отсекающая лишнее. Подчас острая бритва воли обрезает все соблазнительное, желанное, сладостное в обычном человеческом понимании.
Люди с сильной волей нелегки в общении, не всегда понятны. Им нужна доброта, чтобы не подчинять себе других, быть демократичны ми, покладистыми, снисходительными к слабостям ближних. Во многих случаях воля — профессиональное качество, без которого невозможна работа, но отсутствие ее способно разрушить любую профессию и стать могильщиком таланта.
Скажите: «Я хочу», и вы выскажете желание. Добавьте: «Я смогу» — это будет ваша надежда. «Я сделаю» — самовнушение, «предволие», если так можно сказать. «Я делаю» — уже попытка, усилие, способное в любой момент оборваться. И только «Я сделал» — полноценная работа воли. Увы, лишь на сегодня и в малом. Как нельзя наесться раз и на всю жизнь, нельзя сохранить волю, не упражняя ее постоянно, ежедневно, не ставя перед собой все новых и новых задач, не фиксируя в сознании итоги их, не продвигаясь от ближних желаний к дальним стратегическим целям жизни. И тут выясняется, что воля сама по себе — ничто. Инструмент, подобный топору, который может оказаться в руках Раскольникова, пробирающегося по темной петербургской лестнице к старухе-процентщице, мясника, разделывающего на прилавке говяжью тушу, дровосека, заготавливающего впрок топливо, плотника сооружающего дом, художника, высекающего из бревна образ...
Воля во зло и воля к добру. Нравственности без воли — Обломов. Воля без нравственности — фашизм.
Безвольные люди несчастны, порой опасны, их жизнь не бывает успешной, их ломает и несет куда ему вздумается даже несильный житейский ветерок. Но как закалить волю? Спать на гвоздях, подобно Рахметову? Насиловать себя, принуждать к тому, что признается важным? Есть тьма советов, пособий, опыт предшественников. Но нужна... воля, чтобы к ним обратиться, ими воспользоваться, и, значит, никто, кроме нас самих, нас не наставит...
Все-таки общение с Андреем Андреевичем — Генрихом Генриховичем, рыжим учителем из Поспелихи, не было бесполезным. Валерий знал немецкий получше многих ребят физмата, но им преподавали английский! Студенты учили его несколько лет в школе, а он понимал лишь «хау ду ю ду, аи лав ю, гуд бай». Пришлось приказать себе: догоняй!
Через год Илющенко делал уже злосчастные «странички» — переводы заданных текстов — для всей группы.
Преподавательница была из Толстых. Каких — неведомо, но трое Толстых, которых он знал, знамениты. Потомок дворянского рода? Ответвление большого гнезда? Она без труда поняла, кто переводит для группы «странички». Это его удивило — каким образом? «Вы халтурщик и невежда,— сказала неизвестного происхождения Толстая,— профессионал видит, что все списано у одного и того же неграмотного».
Он стал заниматься старательно, но Толстая была удручена. «Знаете,— сказала она однажды,— если бы вы прилагали усилия, из вас вышел бы порядочный переводчик, но поскольку вы усилий не прилагаете, ваши знания на уровне самообслуживания физика. Взял статью, перевел слова, коряво изложил — в общих 

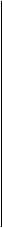

 чертах, в чем там смысл, понятно. А что вам понятно? Ведомо ли вам, что есть подлинный Шекспир и непереводимый Байрон? Что с идущим мимо вас языком уходят великая культура, целая эпоха в истории цивилизации?»
чертах, в чем там смысл, понятно. А что вам понятно? Ведомо ли вам, что есть подлинный Шекспир и непереводимый Байрон? Что с идущим мимо вас языком уходят великая культура, целая эпоха в истории цивилизации?»
Молодость, зачем ты таишь в себе столько соблазнов? Он отдавался душой всему, что возможно лишь в студенчестве и позже не повторится никогда,— целина и спорт, вечеринки с филологинями, историчками, блуждания до рассвета, театры, споры до одурения, книги. Какое время мог он выкроить для «подлинное Шекспира и непереводимого Байрона»? Какие силы?
Толстая сказала: «По сравнению с другим: успехи у вас достаточно приличные, но другим буду ставить пять, а вы больше четверки у меня не получите. По принципиальным соображениям. Пока не измените отношение к языку»!
Он не поверил — чепуха! Приятель, для которого переводил, получит выше оценку. Но приятель получил пять, а Валерий Илющенко четыре.
Так продолжалось семестр за семестром Спокойно, без крика, без лишнего шума. Он курила сигарету, смотрела на него умными, усталыми глазами и тихо повторяла свое: «Не ставлю и не буду... до тех пор, пока...»
Проснулось любопытство. Потом уважения почтение. Что за Толстая? Откуда она знает столь потрясающие вещи из английской жизни? Слушать ее было прекрасно. Но добиться того, что она требовала, он не мог. Воля была взнуздана, казалось ему тогда, и несла на пределе возможного. Он еще не понимал, что воля не имеет предела...
После третьего курса преподавание английского у них закончилось, и Толстая, тепло попрощавшись, расчувствовалась, поставила группе больше пятерок, чем обычно, но Илющенко получил «свою» четверку. Ну и твердокаменная леди! Однако его заело. На будущий год, когда ребята повыбрасывали книжки по «инглиш», он, наоборот, обложился ими до потолка.
Взял обзор по физике по проблеме, обозначавшей в те годы передний край науки: Хофстедтер, будущий лауреат Нобелевской премии, автор красивой серии экспериментов. Задачу себе Илющенко поставил такую: сделать полный перевод, страниц на восемьдесят...
Приступил... И понял, что обиды на Толстую, блистательные щелканья вузовских «страничек» — отзвуки детства. Английский — совсем не то, что они изучали.
Тогда он нашел третьекурсника из Института восточных языков, согласившегося на общественных началах позаниматься с физиками английским. Сам же и организовал кружок, преподаватель того же возраста, никаких барьеров, контакт полный.
Когда он был в стадии «хау ду ю ду, аи лав, гуд бай», ему иногда мерещилось, что он почти разговаривает, лишь чуть-чуть поднажать. После занятий с Толстой понял: знает, но маловато. Поварившись в кружке «востоковеда», догадался: к языку еще, собственно, не приступал...
Владел английским в степени, достаточной для работы физика, но это был, ему теперь ясно, крайне низкий уровень. Просто знакомство, причем весьма поверхностное.
-4-



 Любая работа была ему интересна, и чем неожиданнее она, непривычнее, тем привлекательнее. Это еще с детских колодцев вошло кровь, с керченских ледяных чушек, со студенческих стройотрядов, когда убирали целинные хлеб до снега.
Любая работа была ему интересна, и чем неожиданнее она, непривычнее, тем привлекательнее. Это еще с детских колодцев вошло кровь, с керченских ледяных чушек, со студенческих стройотрядов, когда убирали целинные хлеб до снега.
В степи казах Кантемир брал его помощником отлавливать местных мустангов, дик зверье. Надо было загнать небольшой табун загон из крепких бревен. Ловец слезал с лошака, брал в руки аркан, прицеливался — хоп! Задачей Валерия было сразу же закрутить конец петли вокруг бревна, чтобы конь, рванув ее, падал, а затем бежать к нему, храпящему, поглядывая, чтобы остальные не убили. Вокруг носятся кони, бьют задом, становятся на дыбы. «Открывай!» — вопил Кантемир, сам бешеный, и Валерий мчался открывать ворота, через которые с топотом вылетал табун. Оставшегося поднимали, недоуздок уже на нем, Кантемир вскакивал на холку, ближе к гриве, почти на шею и прилипал чертом: «Гони!» Валеру гонит арапником, взмок, пот залил глаза, видит ничего. «Гони! Гони!»... Потом шли Кантемиру домой. Он жил посреди степи, отшибе, окруженный муравейником полуголых казашат...
Еще на целине задумался Валерий о способах общения иноязычных людей. Казахи, русские, украинцы, белорусы, немцы, грузины — целый интернационал в совхозе, некоторые совсем плохо говорили по-русски, но смущались, не испытывали стеснения. В овладении языком — он вдруг понял! — психолоческий барьер едва ли не самое главное. Труд-то преодолеть скованность, неловкость, без чего не продвинешься ни на шаг. До него дошло: это сильнейший тормоз, действующий на уровне подсознания. Его нет у ребенка — не потому ли совхозные дети так бойко говорили по-немецки, русски и казахски? То, что для детей игра, взрослому надо преодолевать усилием воли.
На третьем курсе к ним приехал стажироваться Клаус, полунемец-полуголландец из Западного Берлина. Вначале он по-русски не мог объясняться, ужасно коверкал слова, но продолжал и продолжал говорить не смущаясь, не останавливаясь и на глазах у всех, изумленного Валерия в том числе, за год перешел на хороший русский. Так прежде изучил он испанский, французский, английский и итальянский, голландский — родной ему по матери, немецкий — по отцу. Может быть, именно Клаус помог Валерию побороть неуверенность.
Прежде чем попасть к Флерову в Дубну, еще до получения диплома, Илющенко поработал стажером-исследователем в Москве. Жена закончила истфак МГУ на год раньше, сидела дома с ребенком, зарплата стажера сто «рэ», они на частной квартире, ребенку нужно молоко, и найти выход требовалось немедленно. Впервые он подумал о языке как способе заработка. Но в Институте технической информации, где предъявил собственный перевод Хофстедтера, сказали: получишь диплом — приходи. Получил — и опять пошел в этот институт, храбро предложил себя в качестве п 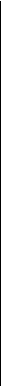 ереводчика с немецкого, английского и французского.
ереводчика с немецкого, английского и французского.
Французский-то откуда взялся? От Клауса, полунемца-полуголландца. Общение с ним показало, что в английском колоссальное заимствование французских слов. Француз скажет «пардон», англичанин «пардон»... Клаус уверял, что если знаешь английский, то переводить с французского можно достаточно быстро, не разговаривать, а читать. Валерий начал учить, убедился: физическая терминология в этих языках совпадает процентов на семьдесят. За год послал десяток рефератов и был обескуражен, получив за них двенадцать рублей! В расценках ориентировался плохо, спросить стеснялся и вот крутил в руках извещение о переводе... Но почему — задумался впервые — месяц уходит у него на реферат? Институту требуется полстранички текста, они и стоят-то два рубля, предполагается, что хорошо знающий язык потратит на статью час. А у него уходил месяц. Вот она, разница между любительством и профессионализмом!
Горький урок не прошел даром. Он снова — в который уж раз! — понял, что языка по-настоящему не знает.
Пройдет не так много времени, однако, и от медлительности, непрофессиональности не останется и следа. С английского, немецкого и французского он научится переводить квалифицированно и зрело. Войдет в ту же редакцию легкой, пружинистой походкой уверенного человека и услышит: «Вот если бы вы переводили с японского! У нас, знаете ли, почти двадцать тысяч внештатных референтов, картотека огромная».
И тут его что-то обожгло, какое-то далекое, полузабытое озорство, вроде трубчатого пороха, подброшенного в деревенский клуб. Переспросил: «С японского? А что? Это мысль...» — и вышел с достоинством, поблагодарив сотрудницу института за совет.
Пребывая в состоянии, близком к тому, что циркачи называют кураж, достал учебник японского. А там... Поставил на верхнюю полку, подальше. Хватит валять дурака!
Несколько лет спустя, уже работая в Объединенном институте ядерных исследований, Илющенко — к тому времени он в совершенстве овладел искусством научного перевода с трех европейских языков — решил попробовать себя в синхронном переводе.
Профессор медицины А. Вейн в статье о психосоматических болезнях, связанных с эмоциональным напряжением, говорит, что у переводчика-синхрониста во время работы частота пульса достигает 160 ударов в минуту. Когда такое напряжение становится постоянным, оно может привести к язве, гипертонии, бронхиальной астме.
Зачем физику Валерию Илющенко понадобилась эта работа на износ? Может быть, согласен с Николаем Михайловичем Амосовым? Блистательный хирург, делает операции на сердце, вшивает искусственные клапаны, руководит институтом, в котором 800 человек, и одновременно — заведующий отделом Института кибернетики в Киеве, автор художественно-документальных повестей «Мысли и сердце», «Умные дети», «Раздумья о здоровье», «Книга о счастье и несчастьях», член Союза писателей СССР. Взвалил на себя, казалось бы, неподъем  ное, умеет ценить каждую секунду и знает возможности сердца. Знаменательно, что интервью Н. М. Амосова «Известиям» называется «Не жалей самого себя»:
ное, умеет ценить каждую секунду и знает возможности сердца. Знаменательно, что интервью Н. М. Амосова «Известиям» называется «Не жалей самого себя»:
«Радость от достижения цели тем больше, чем ярче и труднее то, чего хочешь добиться. И тут нужны напряжения, сила... Если человек сделал в своей жизни ставку на расслабление, он детренируется, уменьшает свою силу, снижает уровень целей... Как только цель достигнута, биология приказывает организму расслабиться, а то он будет «заводиться» до бесконечности. Но нельзя тренировать лень, превращать ее в главный принцип: за это жизнь отодвинет в сторону от всего интересного, поставит на нижние ступени в иерархии человеческих отношений. И тогда возникнет чувство неполноценности».
Итак, академик Флеров не возражал, и Валерий взялся храбро. Как говорится, зажмурился и прыгнул. Так иногда учат плавать, хотя он-то считал себя умелым пловцом и не видел беды в том, чтобы выпрыгнуть из лодки на глубине. Но когда приехали англичане и американцы, опозорился по всем статьям: не успевал, пропускал, сбивался. Гости относились добродушно, а Валерий чувствовал себя убитым.
— Неделю не мог прийти в себя. Для меня! было... было... не знаю, с чем сравнить... Ну просто разрушение Вавилонской башни! Шел храбро, был уверен, что язык знаю, свободно читал и говорил. Все время продвигался вперед на каком-то импульсе самолюбия — глубже, больше, лучше. И вдруг такой конфуз...
Он подошел к проблеме как исследователь, поставил ряд четких вопросов о причинах провала. Искал главную, перепроверял и отбрасывал случайное. Сравнивал с работой профессиональных синхронистов, особенно одного англичанина, переводчика ООН. Стал допытываться и узнал: тот себя совершенно не слышит! Полностью выключает из сознания звук собственного голоса.
— Нужна максимальная сосредоточенность на голосе докладчика,— объяснял англичанин,— его дыхании, кашле, в котором может потеряться слово, случайных поворотах от микрофона, неожиданных, «незапрограммированных» отступлениях от текста; ждешь формулу, она уже на языке, а докладчик пошутит вдруг о свежести воздуха в зале, которая как-то ассоциируется для него с ветром в избранном направлении науки. Отвлечешься — формула проскочила, идет вывод, который тебе неясен...
Валерий стал анализировать скорость, с которой говорят синхронисты. На очередной конференции «сел» в англо-русский канал, надел наушники, понял: главное — слух иметь. Тут все в порядке, у них по мужской линии в семье — сплошь сельские музыканты, баянисты. Играл дед, погибший в четырнадцатом году в Карпатах, отец, оба дяди, да и сам он еще мальчишкой-третьеклассником получил от бабушки в подарок гармонь, потому выучился на баяне, даже увлекся, играл вполне сносно... Убедился: слух не подведет... А дикция? Начал регулярные занятия с магнитофоном, дефекты речи заметил, но не смертельные: не заикался, не шепелявил, реакция быстрая... Учился говорить с отставанием в два-три слова, под радио, упорно отрабатывал навык... Оказалось, с непривычки даже в «переводе» с русского на русский, за  диктором следуя, путаешься на третьей минуте. Он добился того, что не сбивался ни разу в течение всей передачи...
диктором следуя, путаешься на третьей минуте. Он добился того, что не сбивался ни разу в течение всей передачи...
Опытному синхронисту, понял он, нужна психофизическая мобилизация, отказ от собственных подсознательных тормозов. Приходится погружаться в сложную атмосферу чужой мысли, речи. Многие переводчики не достигают этого состояния, сбиваются на последовательный перевод, сокращая и редактируя текст.
Теперь он умеет переводить со всеми междометиями, что называется, до точки с запятой. И лишь раз воспользовался этим не вполне корректно...
Один весьма чопорный зарубежный ученый был раздражен, что на конференции не оказалось профессионального синхрониста и его будет переводить дубнинский физик-экспериментатор Илющенко. Гостю изменила традиционная воспитанность: счел нужным сказать в микрофон, что ввиду отсутствия квалифицированного переводчика он потребует приобщения к официальному отчету о конференции письменного текста, который представит позже. Валерий Иванович добросовестно перевел и это. Потом в зале стал нарастать хохот. Все тряслись и держались за живот: у оратора была привычка после каждой фразы говорить «э-э-э» и синхронист вслед за ним «переводил» — «э-э-э». В пределах правил: точность не нарушалась.
-5-
Много-много лет тому назад, когда Италии] еще не было, а на территории кокетливо выдвинутого в море «сапожка» располагались вольные города и пестрые княжества, в тосканском городке Винчи, на западных отрогах Апеннин, в семье богатого нотариуса и крестьянки родился редкостной красоты мальчик. Один добрый человек, который живет в Москве, но часто бывает в Италии, Александр Борисович Махов, рассказывал, что необыкновенный этот малыш бродил в одиночестве по лугам и садам, вслушивался в голоса земли, пытался узнать тайну жизни камней, растений и животных. Соседи поражались, как хорошо умел он рисовать, лепить, музицировать и считать. Когда необыкновенному мальчику исполнилось лет десять или одиннадцать, нотариус отвез его во Флоренцию, определил к знаменитому художнику. И так поразил ученика город дворцов и фантазий, что, став мастером, он подписывал свои работы «Леонардо, флорентиец»...
Он был не только художником, скульптором, архитектором, математиком и механиком, но еще и физиком, астрономом, химиком, геологом, географом, ботаником, анатомом и физиологом. Сколь необъятен его мир, созданный в веке XV, столь естественно стремление людей, живущих ожиданиями перемены своей судьбы на стыке XX и XXI веков, осмыслить феномен Леонардо, пророчествующий о будущем человечества.
Вот и мой друг, писатель Евгений Богат, незадолго до неожиданной своей, потрясшей всех нас смерти, отдал в издательство рукопись новой книги «Мир Леонардо».
Мы работали с Женей более четверти века, сначала в областной газете, потом в «Литературке», где регулярно печатались его статьи, очерки, эссе. Он был на редкость одаренным  публицистом, социальным психологом, мастером документальной прозы. Его тревожили бездуховность, жестокость. Он боролся с ними всей силой удивительного своего таланта, всей болью сердца. Каждый судебный очерк становился событием для всего общества. Его выступления обсуждались в семьях, в коллективах, по ним принимали, и не раз, решения высшие правоохранительные органы страны, были потоки писем... Судебный очеркист и «Мир Леонардо»?.. Но Евгений Михайлович был широко образованным человеком, философом, книгочеем, добрым сказочником и мудрецом. Поэтому очерки, в которых он сражался с неправдой и душевной слепотой, поразительным образом переплетались у него с эссе и книгами об Андерсене и Софокле, Шекспире и Монтеле, Рембрандте, Бахе, Леонардо да Винчи... Мысли и чувства великих людей он переплавлял с мыслями и чувствами современников — бескорыстных чудаков, собирателей, дарителей, жертвователей — всех, кто, по его определению, исповедует «жизнь как творчество». Он отвергал шаблонно-морализаторское толкование нравственности, понимая ее как противостояние добра злу, служение лучшему в себе и человечестве, верность долгу и Отечеству.
публицистом, социальным психологом, мастером документальной прозы. Его тревожили бездуховность, жестокость. Он боролся с ними всей силой удивительного своего таланта, всей болью сердца. Каждый судебный очерк становился событием для всего общества. Его выступления обсуждались в семьях, в коллективах, по ним принимали, и не раз, решения высшие правоохранительные органы страны, были потоки писем... Судебный очеркист и «Мир Леонардо»?.. Но Евгений Михайлович был широко образованным человеком, философом, книгочеем, добрым сказочником и мудрецом. Поэтому очерки, в которых он сражался с неправдой и душевной слепотой, поразительным образом переплетались у него с эссе и книгами об Андерсене и Софокле, Шекспире и Монтеле, Рембрандте, Бахе, Леонардо да Винчи... Мысли и чувства великих людей он переплавлял с мыслями и чувствами современников — бескорыстных чудаков, собирателей, дарителей, жертвователей — всех, кто, по его определению, исповедует «жизнь как творчество». Он отвергал шаблонно-морализаторское толкование нравственности, понимая ее как противостояние добра злу, служение лучшему в себе и человечестве, верность долгу и Отечеству.
Евгений Богат мужественно переносил обрушившиеся на него страдания. Ушел из жизни несломленным, ушел исполнять собственное, оптимистическое пророчество, высказанное им в книге «Вечный человек»: «Ряд дорогих мне мыслей не удалось сейчас выразить... Ничего, полежат, полежат, как зеленые яблоки на солнце, может быть, пожелтеют, тогда я их и выскажу: лет через десять или через... сто.
Видя вечного человека в любом из вас, я могу увидеть его и в себе самом — с надеждой, что вернусь в XXI или в XXIV столетия и допишу мое повествование. Возможно, это будет одна-единственная строка...» Нет, не строку, что выбьют на печальном камне, имел он в виду...
В ряду дорогих мыслей была для него и дума о Леонардо. Его «Мир Леонардо» — это книга о великом художнике и о том, как велика сила человеческой красоты. Я приведу несколько высказываний писателя, вернувшегося к нам быстрее, чем он иронически предположил:
«Леонардо, рисуя, не только запечатлевал подробности мира, но и познавал мир. Для него рисунки были универсальной формой познания.
Можно читать и перечитывать научные трактаты и философские тома, можно их писать.
Леонардо рисует.
Для него рисунок — это мысль».
«Он, может быть, первый в истории искусства увидел красоту там, где до него ее не находили: в ткацком станке, в очертаниях землечерпалки, в форме человеческого сердца или легких... в лицах, обезображенных яростью».
«В жестокую эпоху, когда и художники убивали, как убивал Бенвенуто Челлини, и самих художников тоже убивали, как был отравлен, если верить легенде, великий Мазаччо, Леонардо был первым... в истории человеческого Духа,— кто ощутил зависимость творческой силы от нравственной основы».
«Абсолютное добро, как и абсолютная истина – великая цель... человечества. А абсолютное зло? Существует? Кисть Леонардо не ответила на этот вопрос, на него ответил XX век. Ответил Освенцимом, Равенсбрюком, Бухенвальдом, Хиросимой, Нагасаки, ответил бомбой, которая упала в трапезную Санта Мария делле Грацие, на одной из стен которой старились, меркли лица апостолов, написанных Леонардо (фреска «Тайная вечеря»).
XX век ответил бомбой, упавшей на Леонардо,— да, на него самого, потому что в этой фреске весь он — и не убившей его. Смысл этого ответа в том, что абсолютное зло существует, но оно менее могущественно, чем неабсолютное добро, потому что — это замечено было в баснословные тысячелетия мыслителями Востока — все становящееся, растущее, тянущееся вверх сильнее того, что отвердело, окаменело, застыло»...
...Тянущееся вверх сильнее застывшего...
Не правда ли, в этой мысли точно выражен лейтмотив и нашего с вами повествования, читатель? Я имею в виду повести жизни любого из представителей рода человеческого.
Через эстафету десятков поколений гениальный Леонардо донес нам свою убежденность в пагубности пассивного, потребительского отношения к жизни: «Как железо ржавеет, не находя себе применения, как стоячая вода гниет, так и ум человека чахнет от лености и бездействия.
А теперь послушайте занимательную историю, которую поведал нам добрый сказочник.
«У одного цирюльника была бритва красоты необыкновенной, да и в работе ой не было равных. Однажды, когда посетителей в лавке не было, а хозяин куда-то отлучился, вздумалось бритве на мир поглядеть и себя показать. Выпустив острое лезвие из оправы, словно шпагу из ножен, и гордо подбоченясь, она отправилась на прогулку погожим весенним днем.
Не успела бритва перешагнуть через порог, как яркое солнце заиграло на стальном полированном лезвии, а по стенам домов весело запрыгали солнечные зайчики. Ослепленная этим невиданным зрелищем, бритва пришла в такой неописуемый восторг, что тут же непомерно возгордилась.
— Неужели после такого великолепия я должна вернуться в цирюльню? — воскликнула бритва.— Ни за что на свете! Было бы сущим безумием с моей стороны губить свою жизнь, выскабливая намыленные щеки и подбородки неотесанных мужланов. Разве моему изнеженному лезвию место у брадобрея? Вовсе нет. Спрячусь-ка я от него в укромном местечке.
С той поры ее и след простыл. Шли месяцы. Наступила дождливая осень. Соскучившись в одиночестве, беглянка решила выйти из своего добровольного затворничества и подышать свежим воздухом. Она осторожно выпустила лезвие из оправы и горделиво огляделась вокруг.
Но... о ужас! Что же стряслось? Лезвие, когда-то нежное, огрубело, став похожим на ржавую пилу, и не отражало более солнечных лучей.
Осознав свою ошибку, бритва принялась горько плакать:
— Зачем я поддалась соблазну?.. Я погибла, нет мне спасения!
Та же печальная участь ожидает всякого, кто наделен талантом, но вместо того, чтобы развивать и совершенствовать свои способности, чрезмерно возносится и предается праздности и самолюбованию. Как и эта несчастная бритва, такой человек постепенно утрачивает ясность и остроту ума, становится косным, ленивым и обрастает ржавчиной невежества, разъедающей плоть и душу».
Остается лишь назвать сказочника: Леонардо да Винчи. Его легенды и притчи, выпущенные издательством «Детская литература», пересказал А. Махов.
Гениальный художник, скульптор, механик и ученый был еще, говорит Махов, неистощимым на выдумки фантазером. До сих пор в итальянских деревнях живы некоторые его сказки, давно ставшие народными. При жизни притчи и сказки принесли ему не меньшую известность, чем картины. Он был желанным гостем и интереснейшим собеседником для простолюдинов и знати. Слушатели ловили каждое его слово, занимательные истории передавались из уст в уста.
Александр Борисович Махов, доставивший нам удовольствие познакомиться с фольклорным творчеством Великого Флорентийца, окончил в Москве Институт иностранных языков. В его переводе вышли сказки Леонардо, «Джельсомино в стране лжецов» Джанни Родари, «Дневник Микеланджело-Неистового», Кричто Фанелли с предисловием Ренато Гуттузо, «Лирика Микеланджело»... Он художник слова, литератор, поэт — кто еще может переводить с итальянского на русский прозу Леонардо и стихи Микеланджело?! И он же... математик, физик — кто еще сможет перевести и русского на итальянский десятитомник «Теоретической физики» Л. Д. Ландау и Е. М. Лившица, пятитомник «Курса высшей математики» В. И. Смирнова, «Теорию твердого тела» и «Квантовую механику» А. С. Давыдова, многие другие научные труды, около 50 учебников и монографий? И он же, вероятно, искусствовед: кто еще возьмет на себя смелость составить для издания у нас книгу истории итальянского искусства — от художников XIII века до современных мастеров?
— Нет,— говорит мне Александр Борисович,— я лишь переводчик, это моя стихия.
— Откуда же физика, математика?
— Когда-то учился на физфаке МГУ, два курса окончил, но увлекся итальянским, перешел в Институт иностранных языков… Конечно, я понимаю ваш вопрос: с осколками студенческих знаний за два первых курса Ландау не переведешь. Я много занимался самостоятельно, полагаю, в объеме полной программы физико-математического факультета точные науки сейчас знаю.
Какие противоположные векторы движения указывает людям судьба! Физик Валерий Илющенко самостоятельно становится переводчиком. Переводчик Александр Махов устремляется к физике. Но судьба ли? Счастливое умение слышать зовы собственного сердца, познать природу своего таланта, сделать упорнейший труд смыслом жизни. Жизни, которая обогащает одного и тем самым одаривает многих.
В послесловии к сказкам и притчам Великого Флорентийца переводчик поведал полную символического звучания историю о бессилии времени перед гением. Оно жестоко обошлось с телом Леонардо, не известно даже место его захоронения, но чудом сохранились бесценные манускрипты Леонардо да Винчи. Его наследие насчитывает свыше семи тысяч листов, исписанных убористым почерком. Записи вел всю жизнь. Это не дневники, поясняет Махов, в привычном нам смысле слова, а рукописи, отражающие колоссальную работу пытливого ума. Леонардо ревниво оберегал записи от постороннего глаза, продумал свою систему тайнописи, писал, как правило, справа налево, читая написанное с помощью зеркала. Не одно поколение исследователей разбирает зашифрованные рукописи, раскрывая фантастическую по широте интересов деятельность гения.
— А что завещал нам Леонардо? — спрашиваю переводчика Махова.— Если говорить в узком значении, имея в виду последнюю из записей?
— К концу жизни он поселился в замке Клу, близ французского города Амбуаза, в одной из королевских резиденций. Могила не из известна, но дата смерти установлена — 2 мая 1519 года. Что касается «письменного завещания» в том смысле, в каком вы спрашиваете, то вот, пожалуй, одна из самых последних записей Леонардо: «Подобно тому, как разумно и дельно проведенный день одаривает нас безмятежным сном, так и честно прожитая жизнь дарит нам спокойную смерть».
Гений, не отделявший искусства от знания, называвший дело своей жизни «наукой живописи», завещал человеку ценить в себе Человека.
-6-
— С японского перевожу давно,— сказал мне Илющенко.
С японского? Но он же в отчаянии зашвырнул учебник с иероглифами на самую верхнюю полку! Ненадолго — на вечер.
Год потратил на то, чтобы понять, о чем вообще идет речь. Что за тайна в причудливых символах? Вот в этих палочках, крючочках или в той звездочке, крест-накрест перепоясанной штрихами. Что они могут означать, чем отличаются от букв? Через год попробовал переводить — не вышло. Сидел до головокружения. Еще полгода — ни с места!
Зачем так истязать себя? Какой в этом смысл? Испытание воли как самоцель? У нас хорошая школа японистов, их готовят Институт восточных языков и ряд других, так зачем понадобилось ему любительским, дилетантским способом изучать язык Страны восходящего солнца?
— Да, японисты есть,— соглашается Валерий Иванович,— но они не понимают физики. Их общеполитическая лексика, торговая, экономическая, правовая далека от моей науки, как небо от земли. Выучить японский было мне куда проще, чем японисту физику. Да никто из них и не взялся бы за такое дело. Науке нужен референт, способный профессионально понимать публикуемые в Японии материалы по физике и извлекать из них суть. Возможно, надо специально готовить научных переводчиков, иметь небольшие языковые отделения при физико-математических факультетах, что практически нереально, или выпускников-физиков управлять на специализированную стажировку в Институт восточных языков, что более приемлемо. Ясно одно: нужна новая профессия «физик-переводчик». Японцы издают сотни 
 журналов, используя свой язык в качестве своеобразного фильтра: меньше информации уходит на Запад. Вряд ли сможет японист извлечь оттуда полезные сведения, даже оценить о точки зрения новизны. Нужен ученый, владеющий японским. Это вовсе не моя блажь, как может со стороны показаться... День за днем упорно искал ключ... Учебники и словари были для него немы, дока не догадался: глубочайшая символика, заложенная в иероглифах, откроется по мере знакомства со страной, историей, культурой. Стал покупать книги о Японии. Побывать бы! Такой возможности не представилось. Но не зря утверждал философ В. Ф. Асмус, что «читатель должен сам потрудиться, и от этого труда его не может освободить никакое чудо». В книгах о Японии Илющенко находил то, о чем авторы их не писали: психологическую подоплеку языка, рожденного душой удивительного народа.
журналов, используя свой язык в качестве своеобразного фильтра: меньше информации уходит на Запад. Вряд ли сможет японист извлечь оттуда полезные сведения, даже оценить о точки зрения новизны. Нужен ученый, владеющий японским. Это вовсе не моя блажь, как может со стороны показаться... День за днем упорно искал ключ... Учебники и словари были для него немы, дока не догадался: глубочайшая символика, заложенная в иероглифах, откроется по мере знакомства со страной, историей, культурой. Стал покупать книги о Японии. Побывать бы! Такой возможности не представилось. Но не зря утверждал философ В. Ф. Асмус, что «читатель должен сам потрудиться, и от этого труда его не может освободить никакое чудо». В книгах о Японии Илющенко находил то, о чем авторы их не писали: психологическую подоплеку языка, рожденного душой удивительного народа.
На курсы он не ходил, привык в незнакомый предмет углубляться самостоятельно, да и времени не было ходить куда-то. Продвигался черепашьими шажками. Болели глаза, появились признаки расстройства, близкого к куриной слепоте: работать приходилось при свете ночника, чтобы не разбудить ребенка. И все-таки еще перед отъездом в Дубну сумел еде-, лать первые рефераты, отнес в Институт научно-технической информации, к той самой сотруднице, что подала ему мысль. Поздоровался, положил на стол, сказал: «Извините, кажется, вы меня просили изучить японский?» Сотрудница от изумления не могла вымолвить ни слова.
— Разговорный я знаю плоховато, могу подучить, теперь уж нетрудно, но зачем? Чтобы по нечетным годам приходить на международную книжную ярмарку и пять минут поболтать с японцем? А литературу по физике я перевожу свободно. Могу полностью прочитать любую статью, сделать реферат, выполнить текстологический анализ и даже выловить ошибки, несуразности... По-английски идентифицирую, что называется, все «бяки», до корректорских опечаток включительно, а по-японски уверен в этом лишь процентов на семьдесят... Для меня языкового барьера сейчас нет вообще. Свободно работаю на любом из шести основных языков, на которых идет около 95 процентов мировой научно-технической литературы. И, естественно, в подлиннике читаю прозу, стихи...
Мой собеседник собран, энергичен. Говорит не спеша, будто взвешивает, проверяет на точность каждую фразу. Поначалу он кажется человеком несколько суховатым, сдержанным в проявлении чувств. Но вот зашла речь о сокровенном — о переводах «для себя» прозы, поэзии, и глаза теплеют, в уголках губ появляется едва заметная стеснительная улыбка: мол, все это несерьезно, так, хобби. Но я вижу, что «несерьезное» в действительности бесконечно дорого ему. Интимное, заповедное — там душа находит отдохновение.
— Можно считать, что в области перевода вы работаете профессионально, как и в физике?
— Пожалуй... Переводы дают мне регулярный заработок круглый год. Значит, по этому критерию прохожу в профессионалы? Дело, собственно, не в заработке, а в общественной  пользе: приносишь ее — тебе платят, не приносишь — занимайся в свое удовольствие.
пользе: приносишь ее — тебе платят, не приносишь — занимайся в свое удовольствие.
Его приглашают работать с переводчиками из ООН, приходилось это делать и в Союзе, и в США. Издал три книги — переводы с русского на английский. Личный стаж синхрониста — более десяти лет.
День отдан физике, исследованиям в лаборатории. Суббота и воскресенье — иностранным языкам. Две жизни. Зато нет для Илющенко препятствий в получении новейшей научной информации. Иной коллега тратит на обработку зарубежного источника три месяца, а Валерию Ивановичу достаточно трех дней.
— Язык помогает мне лучше делать физику,— говорит он.— Я задумывался, не переключиться ли целиком на одну из двух профессий? Взвесив, отверг. Лучше переплетение.
— Но физика для языка бесполезна?
— При изучении языков я использую опыт постановки научных задач. В принципе любой
новый для себя язык рассматриваю как некую незнакомую область знаний, которую подлежит исследовать. И наоборот, сталкиваясь с незнакомым разделом физики, подхожу к нему, как к неведомому мне еще иностранному языку», действую методами, которыми хорошо овладел в лингвистике. Задача облегчается колоссально. Не нужно начинать с нуля, идешь путем поиска аналогий...
Связи между профессиями, конечно, существуют. Но я думаю сейчас о более глубоком переплетении, которое рождается из внутренней потребности разнообразить свою жизнь, избежать монотонности, непрерывно искать, творить и добиваться. Разве колоссальное напряжение воли, которое понадобилось Илющенко, чтобы превратиться в полиглота, не сделало его более подготовленным к решению сложных и неожиданных профессиональных и жизненных задач? Разве чувство удовлетворения от того, что он достиг, казалось бы, невероятного, не способно окрылить, подвигнуть к новым свершениям? И наконец, несравненно более высокий горизонт общей культуры, который открывается человеку, шагнувшему «за барьер», не отзовется ли в его жизни добрыми чувствами, не передастся ли детям и внукам?
— Знаете, я и художественную литературу перевожу...
— Да ну?! А говорите физика, физика!
— Но только для себя, чистое хобби. У меня скопились гроссбухи самодеятельных поэтических книг. Японские стихи перевел, чехов, из французов — Вийона почти всего, Верлена, Рембо, конечно... Неплохо знаю английскую
литературу, немецкую. Но там у меня, пожалуй, нет «своего поэта», как, скажем, Вийон. И Байрон мне нравится, у немцев из классиков — Гейне, но он у нас здорово переведен, «конкурировать» тяжело. Зато, когда сам сделаешь, можно сравнить с образцом.
— А Гете?
— Нет, Гете не мой поэт. Казалось бы, он физикой занимался, интересовался философией, У него много прямо-таки близких мне стихотворений, по-своему трактующих физику, но я знаю — не мой. А вот Гейне страшно нравится! Его ирония особенно. В тяжелом состоянии — ручка вываливалась — сидел в Париже, изможденный болезнью, и писал. Но когда вы посмотрите этого периода стихи — столько в них веселья, сама ирония. Потрясающие!
— Вы пробовали сравнивать оригиналы с переводами?
— Я читаю только в подлиннике, переводов избегаю вообще. Даже в лучших из них оригинал неузнаваем.
Его интересует степень свободы в художественном переводе. Это так, для себя, хобби есть хобби, но все же что допустимо? Вот Томашевский перевел Джона Донна, одного из любимых «стариков» Илющенко, на его взгляд, превосходно. Видимо, потому, рассуждает он, что у Томашевского базис литературоведческий, научный, связи со школой Шкловского, привившей стремление к точности. «У Маршака или Пастернака очень большая «трансформационная свобода». «Гамлет» — выдающееся произведение не только Шекспира, но и Пастернака. Закономерно. Пастернак сам большой поэт. А в других случаях? Что допустимо?» Ему и в любительских переводах хочется получить научные ориентиры.
Он физик, жена историк. Две профессии, можно что-то дочкам подсказать, посоветовать. Теперь добавьте языки, рассуждает он,— педагогический потенциал семьи возрастает весьма значительно.
— Знания родителей — университет для детей. Но захотят ли они в нем учиться? — спрашиваю.
— Я рассказываю детям о культуре народов мира, и они воспринимают с интересом. Интересно и мне. Проверяю себя в опыте преподавания, учусь педагогике...
Студентка и школьница слушают отца вместе. Когда он занят, ему некогда, они терпеливо ждут. И вдруг в воскресенье за чаем он предлагает: «Хотите, поговорим о Шекспире?» Идут к Волге. Гуляют, плещутся, а он рассказывает о сюжетах Шекспира, восходящих к античности... Вечером, довольный, уткнется в журнал, заметив, что дочь потянулась за томиком «Гамлета»...
Никто теперь не скажет, как сложилась бы жизнь Валерия Ивановича Илющенко, осуществи он свою мечту о профессии военного летчика. Могла быть прочерчена иная траектория биографии.
Так что же зависит от случая и что от нас самих? Перебираю мысленно ступени его жизненной одиссеи. Он не закончил краснодарской авиационной спецшколы, не попал в летное училище, но мы, «спецы» московские, в том же возрасте пошли в училища артиллерийские, и через них — в офицерский корпус, войска, однако вся эта долгая, тяжкая, пропитанная потом и солью, нередко и кровью дорога не истребила в наших сердцах семена, посеянные Учителем.
Учителем, который с ходу мог парировать реплику мальчишки, смущенного тем, что о лейтенанте Шмидте в учебнике всего пятнадцать строчек: «А ведь это немало. От большинства людей остается только тире между двумя Датами... Что же это был за человек — лейтенант Шмидт Петр Петрович? Русский интеллигент, умница. Артистическая натура, он и пел, и превосходно играл на виолончели, и рисовал, что не помешало ему быть храбрым офицером, про 

 фессиональным моряком. А какой оратор! Но главный его талант — это дар ощущать чужое страдание более остро, чем свое... Из такого теста делались бунтари на Руси».
фессиональным моряком. А какой оратор! Но главный его талант — это дар ощущать чужое страдание более остро, чем свое... Из такого теста делались бунтари на Руси».
Учителем, который приносит в класс из своей личной библиотеки «Резерфорд» и «Вероятностный мир» Данина — будущим физикам, книги Обручева, Ферсмана — геологам, «Мысли и сердце» Амосова — мечтающим о медицине, «Далекое близкое» Репина — будущим художникам...
Учителем, который сказал нам, мальчишкам, в сорок втором году, когда гитлеровцы были под Сталинградом: «Читайте Гейне, Гете, Шиллера, и вы поймете обреченность фашизма».
Могла ли иначе сложиться моя собственная судьба после встречи с таким Учителем? И судьба многих моих друзей?
Могла ли иначе сложиться жизнь Валерия Ивановича Илющенко, если сельский педагог, директор Ново-Николаевской школы смог разгадать в подростке способности к языкам? Если Факир, физик из авиационной спецшколы, прочертил в его сердце глубокий след?
Так оно и есть, конечно, но смущает элемент случайности. В школе большинство из нас имеет дело с учителями обыкновенными, не способными оказать заметного духовного влияния. И все же обратим внимание на закономерность: современный человек все острее чувствует ограниченность, узость своей профессиональной подготовки. На этой почве могут развиться пессимизм, равнодушие, желание самоутвердиться в том, что для личности опасно, разрушительно: легкомысленных развлечениях, пристрастии к вину, приобретательстве. За внешней бравадой порой скрывается комплекс неполноценности, порожденный скукой однообразного существования. Кто-то грызет и винит себя, кто-то готов обрушиться на весь мир. И недостает понимания, что ты столкнулся с тенденцией общественного развития, требующей от тебя активной работы души, воли. Другое дело Илющенко. Люди такой складки стремятся к цельности, завершенности, полноте. Обладая завидным упорством, они многого добиваются в жизни.
Поверивший в талант, как бы ни крутила его метелица судьбы, отыщет в итоге себя. Илющенко не стал летчиком, но взлетать можно не только в небо.
Перед зданием римского международного аэропорта Фьюмичино стоит величественная фигура первого изобретателя воздухоплавательного аппарата. Пятьсот с лишним лет тому назад он писал об этом трактаты и создал чертежи, практически приступив к воплощению мечты человека о полетах. И с тех пор все мечтатели мира, кого прельщает полет, видят перед собой путеводные крылья Леонардо.
В «Завещании Орла», одной из сказок-пророчеств Великого Флорентийца, могущественный властелин неба наставляет своих потомков: «
Date: 2015-10-18; view: 530; Нарушение авторских прав