
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Формула милосердия 2 page
|
|
Учиться — кому? «Юному врачу»? Всей медицине? Каждому из нас! Учиться понимать, что такое миссия спасения, милосердия. Что мы можем и вправе требовать от врача, как обязаны заботиться о добром имени его, какие шаги должны сделать навстречу медицине. Мы — это я, вы, коллективы, органы управления, пресса, наука, промышленность, страна.
Писатель-хирург Юлий Крелин одну из своих повестей назвал так: «На что жалуетесь, доктор?» Мне думается, сегодняшняя медицина нуждается в исцелении.
Самая надежная терапия при любых социальных болезнях — гласность. Свободное обсуждение в открытой печати темы «Медицина и общество» помогло бы разобраться наконец, почему с этого фронта мы стали все чаще получай тревожные сводки.
«Из собственного обращения к помощи медицины мы всей семьей сделали следующий вывод: если есть хоть малейшая возможность не обращаться к врачу, лучше не обращаться,- читаю я письмо Родионова из г. Пярну Эстонской ССР.— Плохих врачей много. Выбирать нельзя, да и на первых порах не знаешь, кого выбирать. На враче не написано, какой он. Узнаешь только на собственной шкуре. Походишь по всяким специалистам, помыкаешься, пока случайно не вынесет тебя, уже отчаявшегося, на хорошего врача. Медицина у нас, как никакая другая область, длительное время пребывала вне критики. Критика, видите ли, авторитет врача (пло- хого врача?!) подрывает. Научная медицина — она в трактатах да в некоторых клиниках, куда простому смертному человеку не попасть. В поликлиниках научной медициной не пахнет. Там крепостное право: к кому приписали, к тому и ходи. Вот и ходишь к бывшему студенту-троечнику, ставшему троечником-врачом. Каждое слово, что пишу, я взвешиваю. Подтвердить могу многими примерами из истории болезной членов нашей семьи и знакомых. А мы — коренные ленинградцы — жили в нескольких его районах, затем девять лет в Таллине и два года в Пярну — картина везде одинакова».
Предположение насчет «троечников» недалеко от истины. Не так давно на Камчатке проверили вузовские экзаменационные отметки у нескольких десятков врачей, неоднократно нарушавших, по сведениям областного отдела здравоохранения, первую заповедь Гиппократа – «не вреди». И оказалось, что большинство из них было в институте круглыми троечниками. Удалось выяснить, что они по пять — десять раз пересдавали экзамены, их тащили с курса на курс. Не подумайте, что речь идет только о молодых специалистах, обследование затронуло и тех, кто окончил институты давным-давно.
Эти факты приводит в своей книге «Исповедь» писатель-врач Зорий Балаян, работавший терапевтом на Камчатке. Он рассказывает о случаях небрежности, некомпетентности вра 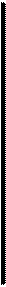 чей, несоблюдения ими даже элементарных правил.
чей, несоблюдения ими даже элементарных правил.
Одному из его знакомых хирург решил ампутировать ногу в связи с остеомиелитом голени. Больной дал согласие, но его мучали сомнения, и он попросил Балаяна переговорить с хирургом. «Наверное, куда легче было бы с ним говорить, если бы я не был врачом... — пишет Зорин Балаян.— Хирург, кажется, обиделся: «Кто, собственно, дал вам право сомневаться в моих знаниях?» Такого права мне, конечно, никто не давал... Меня всего-навсего беспокоила судьба моего приятеля — ни больше ни меньше. Может быть, в нарушение врачебной этики, но я обратился в облздравотдел к главному хирургу. Выяснилось, что сейчас, в мирное время, ампутацию конечности, если она не проводится в экстренном порядке, когда под угрозой жизнь человека, хирург может делать, только имея согласие трех специалистов. Таково официальное положение, утвержденное Министерством здравоохранения. И именно это положение сохранило ногу больному».
Дополнительные, более тщательные обследования показали, что диагноз был неточным. Сейчас, много лет спустя, знакомый Балаяна преспокойно ходит на обеих ногах, боли прошли. По недостаточной опытности и компентности врача, готового к тому же нарушить инструкцию, едва не совершилась роковая ошибка.
В наш век врачу невозможно знать все. Но нельзя не считать обязательным знание того, что касается избранной специальности. В медицине уже более ста областей. Больной вправе надеяться, что хотя бы в одной из них его лечащий доктор разбирается «с закрытыми глазами». Увы, свидетельствует Балаян, так бывает не всегда. Он приводит взятые из практики примеры ошибок в диагнозах и лечении, в том числе и такие, о которых предупреждает настольная монография «Ошибки клинической диагностики»...
Размышляя обо всем этом, Зорий Балаян цитирует В. М. Бехтерева, писавшего в начале века: «Если больному от встречи с врачом не стало легче — это не врач», и вспоминает одну из заповедей Гиппократа: «Относись к больному так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе в час болезни».
Мудрость этого совета ленинградка Е. Н. Касаткина прочувствовала на себе, когда сломала руку и «Скорая помощь» отвезла ее в городскую поликлинику № 23. «Несмотря на то что я врач, проработала четверть века в соседнем медицинском учреждении (медсанчасти Кировского завода), заведующей терапевтическим отделением,— пишет в редакцию газеты Касаткина,— доктор Ландштрас приняла меня очень недоброжетельно. Небрежно посмотрела снимок, накладывая крошечный лангет, занималась посторонними разговорами и отпустила домой, заявив, что перелом пустячный, без смещения. Рука не дала мне ночью спать. Утром дочь привезла меня туда же в надежде, что другой врач посмотрит более внимательно. У врача Бабанского не было ни одного больного, и тем не менее он просто выставил нас за дверь, сказав, что о него нет времени и желания (!) мною занииматься. Пришлось ждать дежурства в травмпункте «своего» врача. На четвертый день (!) вновь приехали. Врач, не осматривая, привела к заведующей отделением Михайловой, 
 которая заявила, что помощь оказана правильно. Нужно терпеть и не нервничать. Я ей поверила, поблагодарила и стойко в течение трех недель сносила боли. Когда же сняли гипс, рука оказалась кривой, с невыправленным подвывихом в лучезапястном суставе. На мой протест заведующая отделением ответила, что я сама виновата (?!), так как не настояла на вправлянии. А дочери через несколько дней заявила, что я будто бы отказалась от вправления и это внесено в историю болезни. Если такой подлог в отношении коллеги, что же эти бесчестные врачи делают с другими больными?!»
которая заявила, что помощь оказана правильно. Нужно терпеть и не нервничать. Я ей поверила, поблагодарила и стойко в течение трех недель сносила боли. Когда же сняли гипс, рука оказалась кривой, с невыправленным подвывихом в лучезапястном суставе. На мой протест заведующая отделением ответила, что я сама виновата (?!), так как не настояла на вправлянии. А дочери через несколько дней заявила, что я будто бы отказалась от вправления и это внесено в историю болезни. Если такой подлог в отношении коллеги, что же эти бесчестные врачи делают с другими больными?!»
Письмо проверил Минздрав СССР. Факты подтвердились. А вот принятые меры явно не соответствовали характеру проступка: «Заведующей травматологическим пунктом поликлиники № 23 Михайловой строго указано, врачам-травматологам тт. Ландштрас и Бабанскому объявлены выговоры».
Указания, выговоры... За некомпетентность, бездушие, подлог? Но больше всего в данной ситуации беспокоит даже не мягкость наказания. Очень уж рознится модель поведения вышеупомянутых горе-специалистов с элементарными нормами профессиональной этики. Хорош доктор, если он равнодушен к страданиям!
Сравните с муками совести булгаковского «юного врача», который страшно корит себя и терзает даже при малейшем, потом не подтверждающемся подозрении о собственной оплошности: «Мне стало холодно, и лоб мой взмок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет... Только дойду домой — и застрелюсь…» И это молодой человек, который в глухомани один, будучи и терапевтом, и хирургом, и акушером и дантистом, принял за год 15 613 больных! «Стационарных у меня было 200, а умерло только шесть»...
-4-
Говорю Юлию Крелину: есть вещи пострашнее некомпетентности, в медицину уже и коррупция проникла.
— Но при чем здесь медицина? — возражает он.— Недавно я был на обсуждении одной повести в Союзе писателей. Автор изобразил врача, который берет взятки. Так можно и о чиновнике написать, о юристе, железнодорожнике...
— Разве к врачу общество не вправе предъявить особые нравственные требования?
— Особые, особые, конечно... А летчик, которому сто человек доверили свои жизни? А машинист в ночном поезде, где спят, надеясь на него, женщины, дети, старики — сотни людей? Не особая профессия? А пожарный? Да что там говорить, множество профессий непосредственно связано с охраной жизни, здоровья, безопасности людей. Директор химкомбината, который травит реку, меньше наносит вреда? Или меньше может сделать для здоровья? Да он больше любого районного врача может «лечить» — воду пусть не загрязняет!
– Тем не менее врача и педагога я бы выделил.
– А мне разве не хочется, чтобы врачи были только хорошими? Хочется! Но когда их так много,' это нереально... Кроме того, свои повышенные требования, если они всерьез, общество должно соотносить с условиями, которые созда 



 ет для врача. Где-нибудь в Хьюстоне, если больной платит, с ним возятся сколько угодно, а нет денег — нет и лечения. У нас же в медицину идут и при несправедливо маленьком окладе, лечение бесплатное, большинство врачей не денег ради работает...
ет для врача. Где-нибудь в Хьюстоне, если больной платит, с ним возятся сколько угодно, а нет денег — нет и лечения. У нас же в медицину идут и при несправедливо маленьком окладе, лечение бесплатное, большинство врачей не денег ради работает...
— С тем, что вы говорите, трудно не согласиться. Во всех московских автобусах расклеены объявления: шоферов приглашают на ставку до четырехсот рублей. Обучение в пределах года.
— Да, а медицине учиться приходится семь лет! Шесть — факультетский курс и еще год — последипломная стажировка. А потом всю жизнь учишься непрерывно, иначе отстанешь.
— Чем вы объясняете растущее в обществе недоверие к медицине? Сейчас почти от любого можно услышать критические оценки...
— Я думаю, недоверия к медицине сейчас не больше, чем было всегда. Скептически к ней относился еще Лев Толстой. Не берусь точно цитировать на память, но примерно так он писал: несмотря на то, что Кити лечили светила, она осталась жива. Не лучше относились к медицине и во времена Мольера. Это было и будет. Сейчас медицина ближе к людям. И естественно, больше стало поводов для недовольства.
— Возможности медицины со времен Чехова и Вересаева возросли невероятно. Советское здравоохранение построено на государственной основе, это определяет его размах, мощь. Но остались ли на прежнем уровне подвижничество врача, его способность к состраданию?
— Врачевание было делом избранных, и воспринимали свою роль как своеобразное миссионерство. Сейчас врач — представитель лассовой профессии. Массовой! А массовое не может быть идеальным, даже просто хорошим. Врач-волшебник, врач-жрец, каким был когда-то земский доктор, уходит в прошлое. Его место в значительной мере занял врач-чиновник, хотя подвижников меньше не стало. Хирурги не разделяют личное и служебное время. Нам могут звонить из больницы и ночью. Я бегу туда всякий раз, когда это необходимо, если есть какая-то опасность для моего больного. Это никто не расценивает как «геройство» — обычная нормальная работа. Так в любой больнице. Медиков, преданных своему делу, миссии милосердия, стало гораздо больше. Но удельный вес их в массе врачей поубавился, они растворяются в общий среде.
«Вдруг жалоба взорвалась»,— сказано в самой первой книге Юлия Крелина «Семь дней в неделю». И почти в каждом его сочинении взрызаются жалобы. Их в напряжении ожидают, о них думают, готовятся к их отражению. Заведующие отделениями и главврачи требуют в предвидении близкого «взрыва» срочно привести в порядок истории болезни, еще раз все пересмотреть и перепроверить, чтобы комар носа не подточил.
«– Сделали все. А вы жалуетесь...
– Да я не жалуюсь. Я просто горюю, доктор, что с рукой-то делать?»
Выразительно, но тихие человеческие голоса, вроде «просто горюю», становятся едва различимыми в грохоте «жалобных взрывов». И когда выясняется, что больной не обманывает, на самом деле «просто горюет», доктор испытывает чувство искреннего удивления: «Вот тебе и на!  А я был уверен, да все были уверены – быть жалобе».
А я был уверен, да все были уверены – быть жалобе».
Первая строка романа «Хирург»: «Доктора — хирурга Мишкина Евгения Львовича звали в горздравотдел по поводу жалобы на него...» Письмо читают вслух, то и дело отвлекаясь на перепалку по поводу надоевших хуже горькой редьки жалоб и жалобщиков. Все заранее настроены к Мишкину сочувственно. В конце концов выясняется, что никакой жалобы и нет, наоборот, врач совершил медицинский подвиг, сделал уникальную операцию, и авторы просят сообщить о ней в печати. Многоопытные хирургические мужи не могли даже предположить, что письмо в горздрав окажется столь «безобидным».
В рассказе «Двое», прочитав жалобу, хирург принимает от коллег соболезнования. Он ни в чем не был виноват, жена пациента жаловалась зря: больной выздоровел. Но разбирательство все-таки состоялось, врач встретил этого человека в горздраве: «злобно и враждебно смотрел он на хорошо поправившегося, даже совсем не больного, а бывшего больного. Комиссия, конечно, признала доктора невинным, но, обратите внимание, до какой степени накалены — так и хочется сказать — противоборствующие стороны: «Злобно и враждебно»!
Обиды, амбиции вместо добросердечия. Как спешим мы, больные и родственники, не разобравшись, бухнуть в колокола и как «злобно и враждебно» реагируют медики на наше недоверие! Похоже, нужно срочно искать взаимопонимания.
«Жалоба взорвалась»... Когда часто наталкиваешься на эти сюжеты в произведениях писателя-врача, воспринимаешь их сигналом неблагополучия.
— Захлестнули нас жалобы. Поток! — сокрушается Юлий Крелин.— сегодня опять с утра мы в отделении жалобами занимались... Сидим и думаем: как написать объяснительную? А уже пора в операционную идти. В бумагах утонули. Отписываемся, потом ездим в комиссию по жалобам...
Крелин-врач отражает настроение своей среды, обычные сетования: «замучили», «дышать не дают». Но мне хочется знать мнение писателя Крелина: почему растет поток жалоб? В чем суть явления? Общественные корни его? Если слишком много совпадений — ищи общий знаменатель.
— Чаще всего жалобы порождаются не отказом в лечении и не самим лечением, а грубостью,—говорит мой собеседник.— Небрежностью, а то и хамством со стороны медперсонала. Если обращаешься к больному с улыбкой, он все воспринимает спокойно. Не всегда, конечно. Иной будет жаловаться при любых обстоятельствах. Но обычно раздражает грубость. Другая причина — отсутствие солидарности, если хотите, корпоративности врачей, да, да, именно отсутствие того, что нам чаще всего приписывают, утверждая, будто бы «все медики заодно». Нередко врач заявляет больному: «Какой это сапожник вас оперировал?!» или: «Что они там понаписали? Выбросьте и забудьте!»
– Амосов в одной из своих книг описывает случай, когда он сильно ругал хирурга, напортачившего, взявашегося за дело, не умея толком оперировать на сердце. Больного доставили 
 в клинику к Амосову, и пришлось его снова оперировать, исправлять чужой брак. Амосов называет коллегу-портача «кретином», «дураком».
в клинику к Амосову, и пришлось его снова оперировать, исправлять чужой брак. Амосов называет коллегу-портача «кретином», «дураком».
— Ругать — сколько угодно ругай, но больному не надо говорить. Ему и так тяжело.
Что можно и чего нельзя говорить больному, во что его следует и не следует посвящать — персонажи повестей Крелина рассуждают о том непрестанно. Ответ для многих из них однозначен: «И вообще, что за нелепость объяснять больным все тонкости и деталии лечения и диагностики. Это, как говорится, наши подробности». Такая позиция вполне справедлива, если речь, действительно, идет о «тонкостях и деталях». Кто хочет в них разбираться, должен учиться медицине. Однако самое существенное для себя непосвященный поймет, если проявить участие, в котором так нуждается подверженный разным страхам и неприятным ожиданиям больной.
Крайняя занятость, к сожалению, почти оставляет современному врачу времени на «душевные беседы» — так их условно назову. Не только в поликлинике, но и в стационаре. В первом случае очередь за дверью — быстро раздевайся, одевайся, кто следующий?! В Боткинской больнице, где я провел целый месяц, более пяти минут ни один врач со мной не говорил.
Наверное, самое сложное для врача – не медицинские, а нравственные аспекты его профессии, психологические. Думаю, подлинный врачебный талант, как и всякий талант, редкость.
Героиня одной из повестей Крелина, Лидия Сергеевна,— молодой врач, недавняя выпускница, считает для себя возможным кричать на пожилого коллегу: «Что вы делаете? Идиотство... Неучи!.. Ну и болото». Замечу, что по существу она была права. Товарищ ее, более опытный хирург — его зовут Борис, про себя оценивает это так: «Боже мой, какая дура! Бестактная, неделикатная, грубая дура».
Однако тот же врач сделает вскоре еще одну небезынтересную «внутреннюю ремарку». Он настаивает, чтобы пожилой человек забрал домой свою жену, так как помощь ей оказать не могут. Старик по фамилии Суворин сопротивляется. Доктор ему свое: раз нельзя вылечить, выпишем. Все вроде бы в пределах правил. Но вот Борис говорит Суворину: «К тому же и доктор, который ходит на вызовы, тоже работает у нас в больнице. Она в курсе дела, если что — можете вызвать ее».
Совет вполне мог бы сойти за сопереживание, если бы не последовал тут же внутренний монолог доктора: «Я имею в виду Лидию Сергеевну. С ее-то характером! Она ему устроит желтую жизнь».
Разве это медицина – организовывать для больных и их родственников «желтую жизнь»? Порядочно ли, добросердечно, зная «бестактную, неделикатную, грубую дуру», советовать: «если что — можете вызвать»? Тот же Борис говорит о ней заведующему отделением: «Невоспитанная, грубая девчонка». Когда он делает ей замечание за хамство, она рубит в своей манере: «Отвяжитесь вы все от меня...»
Вот такая молодая особа. Доктор? Да пусть сто раз образованна и начитанна в медицине, любые надежды подает — лично для ме  ня она не доктор! Невоспитанность ранит, слышать грубость из уст врача — непереносимо.
ня она не доктор! Невоспитанность ранит, слышать грубость из уст врача — непереносимо.
Теперь вернемся к весьма поучительной истории с выпиской жены Суворина.
«Так что вот, доктор,— говорит хирургу Борису неубежденный старик Суворин.— Домой я ее не возьму, пока язву не вылечите. Такого не бывает, чтобы простую маленькую рану на ноге нельзя было заживить». Наверное, доктор ему сейчас растолкует, что есть такие зловредные язвочки, когда медицина бессильна, или пригласит к заведующему отделением, чтобы тот объяснил. Все будет доброжелательно, вежливо... Как бы не так! Следует незамедлительный ответ врача, ни секунды он не взял на размышление:
«Знаете ли, милый друг, в конце концов, спрашивать вас мы не будем. Если мы находим, что ей в больнице делать нечего,— все! В советах ваших мы не нуждаемся!»
Вот так! «Милый друг» — старику.
Суворину можно обидеться, есть основания и он, конечно, рассердился, но сказал, однако достаточно тактично: «Нет такого закона, чтобы насильно выписывать». Доктор принялся объяснять, что мест нет, больные лежат в коридоре, ждут очереди, а жена его зря занимает койку, лечить ее не могут. Правильно говорит, справедливо. Но объяснять надо было до «милого друга», до начальственного «все!», до хамского «в советах ваших не нуждаемся». До грубости, а не после, когда твои доводы уже трудно воспринять. И Суворин не воспринимает: «Это ваша забота — как помочь человеку А я ее домой не возьму». Здесь уж, сами понимаете, остатки респектабельности с Бориса слетели, личину доктора он сбросил окончательно:
— Ну так вот, слушайте. Я с вами говорил, как мог. (это верно, к сожалению, как мог.— А. Л.) Больше мне сказать вам нечего. Мы ее выпысываем в воскресенье. Приготовьтесь... Из-за ваших капризов мы не намерены напрасно койку занимать.
— Капризов! Поостереглись бы, молодой человек! Я вам в отцы гожусь.
«Где-то в глубине мне действительно стало несколько стыдно,— признает врач, от лица которого ведется рассказ,— но я уже вошел в штопор:
— Я бы не хотел иметь такого отца, короче говоря, я не намерен с вами больше разговаривать. Мы в воскресенье ее привезем домой. — Повернулся и пошел. Чувствую, что
становлюсь похож на кухонного горлодера».
Что толку в самобичевании? К тому же не услышаанном тем, кому нахамили?
И вот цена всей этой фальшивой самокритики: «Да, скандал будет,— продолжает свой внутренний монолог «оскорбленный» Борис.— Пусть жалуется! Ничего. Здесь мы абсолютно правы. Но историю болезни надо будет еще раз проверить» (подчеркнуто мною.— А.Л.)
Жену Суворина выписали, он за ней не пришел, отвезли с санитаркой. Дома старика не оказалось, оставили на соседей. И она умерла. Нет, не от язвочки на ноге, не выдержало сердце. Если не предполагать, что сказался стресс из-за этой нервотрепки с необычной выпиской, произошло совпадение. Проверяющие признали врачей невиновными.
Узнав о внезапной смерти Сувориной, какие же чувства испытывают Борис и его заведующий? Прозрачно ясная «гамма переживаний»: скандал нужно срочно замять. Других помыслов нет. Об умершей женщине и о человеке, у которого только что умерла жена, заведующий отделением спрашивает в таком тоне:
— Этой бабки-то муж — тот склочный старикан?
— Именно.
— Ай-я-яй!..
Вот так!
Себя в душе — «горлодером», а вслух по всей больнице — «склочный старикан» и начальству с готовностью: «именно». Нравственные люди, ничего не скажешь.
Профессионализм не оправдывает нравственную глухоту, элементарную невоспитанность, беспринципность. Если в душе врача не прорастают зерна человеческой доброты, его профессионализм становится опасным...
Человечность плюс компетентность, очевидно, такова формула милосердия.
-5-
Почему я стал врачом? — спросил себя однажды Крелин и попытался дать ответ в книге «Переливание сил».
«Мой отец — врач. Помню, он не приходил домой сутками. Звонил ночью в больницу… Когда кто-нибудь из знакомых болел, пала сразу же становился самым главным. Сразу же обращались к нему. А он осматривал, выстукивал, ощупывал, молчал и изрекал... Приходили его товарищи, врачи. Они говорили с ним о своих делах:
«Работа тяжелая. Покоя нет. Нет времени почитать даже свои журналы врачебные. Про другие книги и говорить не приходится. Никто об этом не думает, никто этого не учитывает. Платят мало. За адову работу. Надо еще где-то подрабатывать. Подрабатываешь дежурствами. Потом три дня в себя прийти не можешь! Больные жалуются...»
Таких разговоров было много. И все они кончались одним: «Не дай бог, дети наши по нашему пути пойдут». Роптавшие и брюзжавшие, оказалось, не врали. Но у большинства из этих сетующих дети все-таки становились врачами. А потом я работал электромонтером в больнице и уже сам видел работу медиков... Я видел больных, выздоравливающих после операции. И больных, умирающих после операции. Врачей, не отходивших от них сутками... А иногда видел родственников, кричавших на врачей, на сестер: «Убийцы! Зарезали! Бездушные!» Видел и хорошее. Настоящую благодарность. Видел проводы больных: улыбки, цветы. Отцовские товарищи были правы — тяжелая работа. Но я решил стать врачом. Почему? Не знаю. Странный это вопрос. А вот хочу ли я, чтобы и дети мои были врачами?..»
После серьезных размышлений, после долгих лет работы Юлий Крелин придет к такому выводу: «Если дети мои тоже захотят стать врачами, ох и трудно им придется! Но я — «за»!»
В августе сорок первого мама увезла двенадцатилетнего сына в эвакуацию... под Сталинград. Отец работал хирургом в институте имени Н. В. Склифосовского, но 16 октября институт расформировали. Отец получил назначение хирургом госпиталя. Мать, юрист, пе  реквалифицировалась в рентгенологи — это было нужнее.
реквалифицировалась в рентгенологи — это было нужнее.
Всю войну мальчишка жил при госпиталях! Крутился между врачами и ранеными. Костыли, кровь, промокшие бинты, стоны, ругань, нервное буйство, отчаяние, радость спасения — день за днем, год за годом — все это прошло у него перед глазами, отложилось в душе.
Мне досталось лишь несколько часов таких впечатлений: в сорок четвертом, когда наша артиллерийская спецшкола вернулась из эвакуации в Москву, нас послали на курский вокзал выгружать эшелон с ранеными. Вытаскивали на носилках перебинтованных, перегипсоваиных, обожженных, обезноженных, контуженных, корчившихся от боли. Седая женщина в погонах, видимо военврач, кричала нам: «Мальчики, мальчики! Быстрее! Быстрее!..» Кто мог, выхог дил из вагона сам, других мы, пятнадцати–шестнадцатилетние, взмокшие, повзрослевшие в одночасье, несли на машины. Стон и мат помню до сих пор...
Юлий Крелин моложе меня на три года, значит, наблюдал такое с двенадцати лет...
— Отец хотя и травматолог, но делал обычные хирургические операции,— говорит он.— Дежурства были общие. Тогда не знали такого разделения, как сейчас. Травматолог мог оперировать руки, ноги, сшивать разорванную печень, занимался аппендицитом, прободной язвой желудка, внематочной беременностью. И это недавно было, в пятидесятые годы! Теперь даже поверить трудно. Сейчас — отдельно травматологи, отдельно хирурги, разделившиеся в свою очередь... Если несчастье случилось с сосудами, называют специализированную бригаду из другой клиники или института, хотя своих хирургов полно, но этого они уже делать не могут. В порядке исключения я занимаюсь и общей и сосудистой хирургией, но сосудистая у меня вроде профессионального хобби. Не по профилю отделения, вот начальство и ворчит... Эти операции выделили в самостоятельную хирургию. Когда-то и грудная выделилась — легкие, пищевод, сердце, сосуды. Потом пришли к мысли, что нельзя совмещать операции пищевода и легких, сердца... Я говорю о фактическом положении, хотя не совсем согласен с тем, что происходит.
— На этом дробление не кончилось?
— Нет! Из грудной выделилась легочная хирургия. Оформилась даже в отдельный институт в Ленинграде — пульмонологии. Сердечная — со своей спецификой, своими институтами. Там сложные операции с аппаратами искуственного кровообращения. Вот и Амосов этим занимается...
– Но ведь любая профессия, если даже в ее взять,— скажем, юрист или врач, инженер, токарь, учитель — в чем-то ограничивает человека. А в медицине, смотрю, уже и не профессия, а малая дробинка ее.
– Да, у нас еще хуже. Врача, как такового, а нет, поделен на отсеки. Что общего между психиатром, туберкулезным врачом и глазником? Я говорю уже о дальнейшем разделении. «Внутри хирурга» — множество самостоятельных специальностей. Врачи разного профиля сегодня не понимают друг друга.
Где-то я читал, что у Бунина была поразительная способность с первого взгляда определять род занятий человека. В его время это было, вероятно, не так сложно, как сейчас. По одежде, прическе не очень-то отличишь, особенно в нерабочие часы, токаря от научного сотрудника, экономиста от врача. Больше вам скажут руки — коротко подстриженные ногти у женщин-хирургов, следы чернил, мела па пальцах у педагогов, въевшиеся крупицы металлической пыли у заводских рабочих. Многое могут сказать глаза, на них профессия накладывает отпечаток. Но стоит человеку произнести несколько слов, и знание о нем многократно расширяется. Никто, кроме моряка, не скажет «компАс», социолог в разговоре непременно упомянет «репрезентативно», кибернетик—«модель». По словечку «где-то», сказанному не совсем к месту, я иногда угадываю человека из кинотелевизионного мира, который, предположим, послушав вот эти мои рассуждения, мог бы заметить: «где-то ты прав, но...» Однако самый точный свой портрет профессия рисует в психологии человека. Зная, чем о занимается, можно представить себе образ мышления, даже характер. «Выпадают из круга наиболее яркие, одаренные, их угадать почти невозможно (сейчас многие сказали бы —«вычислить»). Но масса людей в итоге длительных занятий одним и тем же делом, общения в относительно замкнутой среде приобретает специфические черты и привычки. Отнюдь не безвредные с общественных, социальных позиций.
«...Суть дела гораздо глубже и печальней, она заключается в той иссушающей, калечащей душу печати, которую накладывает на человека его принадлежность к профессии,— писал В. В. Вересаев.— на все явления широкой жизни такой человек смотрит с узкой точки зрения непосредственных практических интересов... Конечно, в луне и солнце пятна есть, но есть и в его профессии; но если их и можно касаться, то нужно делать это чрезвычайно осторожно и келейно, чтоб в посторонних людях не поколебалось уважение к профессии и лежащим в ее основе высоким принципам. Но ведь всякая профессия имеет дело с людьми, ее темные стороны отзываются на людях страданиями и кровью? Что же делать...»
Все это, по мнению Вересаева, не способствует энергичной и плодотворной работе с недостатками цеховой среды: «Для такого человека его профессия есть нечто совершенно другое, нем все остальные. Если он, например, врач, то будет искренне негодовать и удивляться, для него это нужно скрывать от кого-нибудь темные стороны судейской, адвокатской, путейской, духовной профессии; будет... От души восхищаться, как глубоко проникает великий писатель в своем «Воскресении» в душу заседающих за столом судей». Но если этот человек принадлежит к судейскому миру, то по поводу того же «Воскресения» он (как это в действительности и было) с негодованием станет утверждать, что психологическая проницательность изменила на этот раз великому писателю...»
Date: 2015-10-18; view: 308; Нарушение авторских прав