
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Формула милосердия 1 page
|
|
Писатель — врач: мост над временем между медициной и обществом

Говорят, что в медицине понимают все. Если это так, я — исключение. Клянусь, абсолютно ничего в ней не понимаю. Даже не знаю: существует ли она?
Если не существует, то почему заменяют сердца, пришивают отрезанные руки и вытаскивают «с того света»? Если существует, то почему в пресс-клубе журналисты спросили президента академии медицинских наук СССР (цитирую по опубликованному отчету): «Женщина заболела радикулитом в тяжелейшей форме. Все возможные виды медицинской помощи в Москве за четыре месяца были использованы. Результата нет. Ее уже переводили на инвалидность. Обратилась к экстрасенсам — тщетно. Наконец поехала в Молдавию к бабушке Гутчик. Без надежд. Думает, использую последний шанс. Через четыре дня звонит из далекого молдавского села и говорит: «Все в порядке. Здорова». И вот простой вопрос...»
Простой, не правда ли? Четвертуйте меня, я бы не ответил. В Москве – академия, институты, клиник, профессора, врачей видимо-невидимо! И женщина, судя по всему, не без связей, сумела в столице исчерпать «все возможные виды медицинской помощи», а вылечила ее  молдавская бабушка — что тут скажешь? Но это мне, непосвященному, трудно. Академии Н. Н. Блохин тотчас же нашелся: «главное, не стоит делать из отдельного случая далеко идущие обобщения о том, что ключ к исцеление находится не в поликлинике, не в больнице, а где-то там, в неведомой деревне, у неведомого необразованного целителя».
молдавская бабушка — что тут скажешь? Но это мне, непосвященному, трудно. Академии Н. Н. Блохин тотчас же нашелся: «главное, не стоит делать из отдельного случая далеко идущие обобщения о том, что ключ к исцеление находится не в поликлинике, не в больнице, а где-то там, в неведомой деревне, у неведомого необразованного целителя».
Отчего же тот ключ, что в поликлинике я больнице, не отомкнул радикулита, и страдалицу потянуло в «неведомую деревню»?
Чем больше читаю статей о медицине, тем больше запутываюсь. В одной: «Дело родовспоможения поставлено у нас превосходно». В другой: «Достаточно ознакомиться с отечественными публикациями по медицинской генетике, чтобы сделать однозначное заключение об отсутствии дородовой диагностики и вообще широкой медико-генетической работы среди населения» (академик н. Дубинин).
Почта центральных газет свидетельствуем большом несовпадении диагнозов, которые ставят на периферии, с диагнозами, которые ставят в Москве. Что, не доходит на периферию современная наука? Академик АМН О. К. Гаврилов: «хотя в среднем техническое оснащение там, конечно, хуже, мы не имеем информации о том, что существует очень сильное расхождение диагноза в столичных и периферийных учреждениях».
Мне стало легче. Профессия заставляет мотаться по городам и весям, где-нибудь, не дай бог, прихватит, а там как раз «техническое оснащение в среднем хуже». Но теперь, спасибо академику медицины, знаю, что техническое оснащение особой роли не играет: информации о расхождении диагнозов (да и методов лечения, наверное?) Нет.
Повеселев, я принялся за чаем почитывать отчеты о международной выставке в Москве «Здравоохранение». Читаю — батюшки светы! — зачем поверил академику медицины? Техника все решает! Именно она! И в постановке диагноза, и в лечении: «стимулирует активные точки на теле человека лазерным лучом», «делает манипуляции зубного врача безболезненными», «позволяет заглянуть внутрь человека, будто он стеклянный»! Да без нее не только шагу шагнуть или писк издать — пеленки намочить, извините, невозможно: «согревая и сверху, и снизу, помогает новорожденному совершить первый в жизни туалет». А еще она, чудо-техника, «получает развернутое рентгеновское изображение черепа», «обезвреживает глубоко засевшие злокачественные новообразования», да куда уж дальше — «беседует с пациентом, обрабатывает кардиограммы, ставит диагноз, за день пропуская до двухсот человек». Не ошибочка ли вышла? Не участковый ли наш бедолага-доктор имеется в виду? Перечитал: нет, компьютер!
Как же уверяли меня, что разница в техническом оснащении не сказывается на качестве диагностики? Не сказывалась бы, зачем непоседливому человечеству придумывать компьютерные томографы, внедрение которых, по мнению члена-корреспондента АМН СССР Н. В. Верещагина, можно сравнить с той новой эрой, что открыло применение в медицине рентгеновских лучей? К чему плазменный скальпель, операционные микроскопы и лазерные хирургические установки, «позволяющие действовать на крошечном плацдарме в пять микрон величиной»?
 Как же периферия может угнаться за столицей если нет там даже совсем уже простеньких аппаратов, «действующих с использованием эффекта ядерно-магнитного резонанса»?
Как же периферия может угнаться за столицей если нет там даже совсем уже простеньких аппаратов, «действующих с использованием эффекта ядерно-магнитного резонанса»?
Впрочем, вот, кажется, вполне приемлемое решение спора между столицей и периферией «переносная искусственная почка, с которой можно поехать в командировку или в отпуске ее «укрепляют под мышкой и периодически меняют». Прочитав такое в напечатанных центральными газетами репортажах С.Туторской и О. Францена, я прямо-таки воспрял духом. Чего это я, в самом деле, с возрастом стал осторожничать, разборчиво выбирать адреса командировок — там слишком холодно, здесь чересчур жарко или сыро? Нытье, малодушие! Портативная искусственная почка (всего-то два кило под мышкой!), «барокамера па колесах» и переносной «полюс», «воздействующий низкочастотным магнитным полем на больные конечности», не займут много места и обеспечат полную свободу передвижения. Вы совершенно правы, коллеги: «что говорить, от таких небывалых возможностей голова может пойти кругом».
Вот как, оказывается, далеко шагнуло человечество в деле охраны здоровья! Но то ли еще будет! Уже замерзших, пролежавших бездыханными в снегу несколько часов, сообщает одна из газет, удалось оживить. Даже беднягу шофера с японского рефрижератора, который приехал в Токио за мороженым, да так умаялся от жары, что спрятался в свой холодильник, гд0езаморозился нечаянно до минус десяти градусов.
Бедная бабушка Гутчик — «неведомый, необразованный целитель» из молдавской куда вам против объединенных усилий науки и техники xx века! Вы темны, как тихая, теплая, но беззвездная ночь, в то время как медицина, сверкающая разноцветными компьютерными огоньками, постигла все!
Совсем было успокоился и взял в руки статью директора Института сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. Но что такое? Опять меня, непосвященного, сбивают с толку. После могущественной симфонии, которая про звучала в репортажах с выставки «Здравоохранение», узнаю, что академик АМН В. И. Бураковский просит дать хирургам «принадлежности одноразового использования, специальный инструментарий, современные шовные материалы, клапаны, сосудистые протезы, наркозную и дыхательную аппаратуру». В книге другого нашего знаменитого хирурга, оперирующего на сердце, Н. Амосова, читаю: «кислород ночью кончился, с трудом дотянули больных. А чаще всего нет антибиотиков, нет строфантина, нет гепарина...»
Однако до операции на сердце, может, не дойдет? — успокаиваю себя. Евгений Михайлович Тареев, педагог, академик АМН, лауреат Ленинской и Государственных премий, Герой Социалистического Труда, укрепляет пошатнувшуюся веру в могущество медицины: «Я настаиваю на том, что главный и даже единственный, кто в ответе за больного,— это его лечащий врач. Он должен уметь видеть больного, конкретного человека, личность в целом. Как говорил греческий философ Ксенофонт, живший за пятьсот лет до нашей эры, «врач весь видение, весь – слух и весь — мышление».
Вот! Еще за пятьсот лет до нашей эры! Даже вообразить себе невозможно, насколько с тех пор обострились и развились у моего лечащего врача видение, слух и особенно мышление. Чувство надежности охватывает меня. Да хоть сквозняк, хоть ноги промокшие — чего не бывает? — доктор не даст пропасть. Его не за пятьсот лет до нашей эры, а в ХХ веке выучили, на лучших кафедрах страны.
«...Ручаюсь,— выливает мне на голову холодный душ академик Е. М. Тареев,— вы не найдете и двух кафедр, где полностью совпадают взгляды на природу, скажем, ревматоидного артрита или на варианты форм, стадий и фаз развития «обычной» гипертонической болезни… Мне приходилось сталкиваться буквально с анекдотической ситуацией, когда ассистент хорошо рассказал, а студент столь же хорошо описал болезнь, например подагру, оба довольны и в то же время не способны распознать ее в жизни».
— Так что же? — не без некоторой растерянности спрашивает академика беседовавший с ним журналист.— Одна из самых «чоловсковедческих» профессий становится бюрократической дисциплиной?
— К сожалению,— отвечает выдающийся ученый, терапевт и педагог.— И на это надо смотреть открытыми глазами.
Окончательно сбитый с толку, я стал смотреть на медицину столь широко открытыми глазами, что шире они уже не открывались, хоть пальцами веки раздвигай! С одной сторона столько болезней побеждено — тиф, чума, холера, оспа, полиомиелит почти скрутили, туберкулез; оперируем на сердце и легких, слепым возвращаем зрение... А с другой...
— Ты чудак,— сказал мне знакомый врач. – Сам себя запутал. Разберись сначала, что ты понимаешь под словом «медицина»? Медицинская наука может быть на недосягаемой высоте, а в больнице не хватает мест или элементарных порошков. Какое это имеет отношение к достижениям науки?
Резонно, черт возьми. Прав знакомый. Но тут заболел мой друг. Его неделю обследовали, сказали, что оперировать не надо, и выписали из больницы. А потом, снова на «скорой», отвезли в другую больницу, где еле спасли... Я ему начал втолковывать про разницу между достижениями медицины и уровнем здравоохранения, но он замахал руками. «Медицина,— в сердцах сказал друг,— когда лечат хорошо и быстро, а не открытия в пробирке и не проспекты с выставки».
— Глупо спрашивать о медицине больных,— наставлял все тот же знакомый врач.— заранее ясно, что в глазах того, кого вылечили, она «величайшая из наук», а тот, кого «залечили», скажет: «шарлатанство». Советую поменьше их слушать.
Но и с врачами говорить о медицине, увы, бесполезно. Не любят и не умеют рассказывать «обывателю» о тайнах своего дела (впрочем, какой профессионал это любит?) А если вынуждены давать интервью для печати, то упирают в основном на «выдающиеся достижения», лишь попутно отмечая некоторые промахи в организации здравоохранения или отставание медициной промышленности...
Работая над этой книгой, я пришел к выводу, что проблемы общества, казалось бы хорошо знакомые, оборачиваются неожиданной стороной, когда смотришь на них с такого «наблюда 

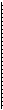 тельного пункта», как сочетание разных профессий.
тельного пункта», как сочетание разных профессий.
Взять хотя бы здравоохранение, медицину! Мы слушаем беседы врачей по телевидению, обращаемся к докторам со своими болезнями, дя и немало книг прочитали о медиках — художл ственных, популярных. Словом, все мы кое-что о ней знаем. Но стоит посмотреть глазами писателя-врача, как тотчас же возникают вопросы, при любом другом угле зрения остающиеся в тени.
Писатели-врачи...
Одни из них жили давно, их книги воссоздают былое, с другими я мог говорить лично. Чехов, Вересаев, Булгаков — я перечитывал их иными, чем прежде, глазами. Тома топорщились от закладок, пухли блокноты выписок, и то, что теперь переполняло меня, жаждало немедленно излиться в откровенном разговоре, неспешном общении с кем-либо из писателей-врачей нынешних. Чтобы мост между медициной и обществом стал осязаемым, протянулся над временем.
Я позвонил Юлию Крелину.
-2-
За тридцать лет работы кандидат медицинских наук, заведующий отделением одной из московских больниц Юлий Крелин участвовал в пятнадцати тысячах операций, треть из них, наиболее сложные, делал сам. Две-три операция ежедневно. Некоторые всю жизнь стоят перед его глазами. Наверное, хирург — единственны й из профессионалов (разве что еще минер?), кто не может «переписать» заново?..
— Может! — говорит мне Юлий Крелин. – Иногда так и делается, если необходимость повторной операции обнаружена сразу. Нежелательно, опасно, но порой другого выхода нет... Я часто думаю о случаях, происшедших в моей практике пять, десять, а то и двадцать лет назад,— удалось бы спасти, выполнив все иначе? Эти, с печальным исходом, операции живут во мне, мучают и превращаются в муки моих литературных героев.
Его рассказы, повести, романы выходят с 1964 года в разных издательствах, печатаются в журналах, что естественно для прозаика, члена союза писателей ссср. По одному из его произведений телевидение показало трехсерийный фильм «Дни хирурга Мишкина».
Герои Крелина — врачи и пациенты, в его книгах сталкиваются страдания и избавление от них, смерть и спасение. Литературной стороны его творчества я касаться не стану. Взгляд публициста близок к взгляду социолога. Меня интересует проблема «медицина и общество»: отношения врача и больного, этические аспекты ситуаций и конфликтов, происходящих в мире, отгороженном от нас белыми халатами, белыми занавесками на окнах, табличками «вход воспрещен», врачебной тайной.
Медицина меняется, как и само общество, но степень их «вражды-любви» не становится меньше. И не уменьшится, вероятно, до тех пор, пока не исчезнут сами болезни,
«Один молодой врач,— писал В. Вересаев,— спросил зиамснитого Сиденгама, «английского Гиппократа», какие книги нужно прочесть, чтобы статъ хорошим врачом.
– Читайте, мой друг, «Дон-Кихота»,— ответил Сиденгам.— Это очень хорошая книга, и теперь часто перечитываю ее.
Но ведь это же ужасно! Это значит — никакой традиции, никакой преемственности наблюдений: учись без предвзятости наблюдать живую жизнь, и каждый начинай все с начала.
С тех пор прошло более двух веков; медицина сделала вперед гигантский шаг, но многом она стала наукой; и все-таки какая еще громадная область остается в ней, где и в настоящее время самыми лучшими учителями являются сервантес, шекспир и толстой, никакого отношения к медицине не имеющие!»
«На невежественной вере во всесилие медицины,— убежден В. Вересаев,— основываются те преувеличенные требования к ней, которые являются для врача проклятием и связывают его по рукам и ногам... Медицина есть наука о лечении людей. Так оно выходило по книгам. Так выходило и по тому, что мы видели в университетских клиниках. Но в жизни оказывалось, что медицина есть паука о лечении одних лишь богатых и свободных людей. По отношешло ко всем остальным она является лишь теоретическою наукою о том, что можно было б вылечить их, если бы они были богаты и свободны, а то, что за отсутствием последнего прходилось им предлагать на доле, было ниче. Иным, как самым бесстыдным поругательство медицины».
— Как вы относитесь к «запискам Вересаева, написанным в 1895—1900 года? – спрашиваю Крелина.
— Публицистическое значение этой огромно. Столь откровенно, беспощадно о медицине в России никто еще не писал. Но собственный врачебный опыт у Вересаева ничтожен. Он выпустил свою книгу почти сразу же после окончания университета. Слишком рано начал писать о медицине. С первых же своих врачебных шагов пришел в ужас от неумения, незнания и эти вполне естественные, обычные ощущения начинающего врача представил как неумение, незнание всей тогдашней медицины. Коллеги взбунтовались против него и подвергли остракизму именно потому, что в своей собственной практике он допустил явные ошибки.
— Я думаю иначе. Медики восстали против него из корпоративных, профессиональных соображений. Им не понравилось, что Вересаев вьнес сор из избы, обратился через голову медицины прямо к обществу. Они считали, что публике незачем совать нос в их закрытый клуб.
— Его книгу я читал еще до института, потом в начале своей медицинской практики и еще раз года два назад. «Записки врача» потрясают через три десятилетия моей хирургической практики не меньше, чем в самом начале пути! Но все же я разделяю крупнейшего писателя Вересаева и Вересаева — неопытного врача...
За девять лет до того, как Вересаев начал свои «записки», в 1886 году, в Москве, на дверях двухэтажного особняка на Садово-Кудринской появилась чугунная табличка, которую видеть там и по сей день: «Докторъ Чеховъ». Будущий писатель главным в своей жизни считал медицину: «Передо мной моя не литературная работа, хлопающая немилосердно совести...»
Письма, собранные врачом и литератором Б.М.Шубиным в книге «Доктор А. П. Чехов», выпущенной издательством «Знание», рассказывают нам, какой была тогда медицина в русской деревне, как врач понимал свою роль и как воспринимали его окружающие, какие завязывались отношения с простыми людьми и «сильными мира сего»:
«...Мужиков и лавочников я уже забрал в свои руки, победил,— делится в 1882 году впечатлениями о своей работе молодой доктор Чехов,— у одного кровь пошла горлом, другой руку деревом ушиб, у третьего девочка заболела... Оказалось, что без меня хоть в петлю полезай. Кланяются мне почтительно, как немцы пастору. А я с ними ласков — и все идет хорошо».
«Оказался я превосходным нищим; благодаря моему нищенскому красноречию мой участок имеет теперь два превосходных барака со всей обстановкой и бараков пять не превосходных.,.»
«я избавил земство даже от расходов по дезинфекции. Известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабриканта на все свои двадцать пять деревень...»
В эпидемию холеры 1892 года в Серпуховском уезде, где находился участок доктора Чехова, было зарегистрировано всего четырнадцать случаев заболевания с четырьмя смертельными исходами. Во многом это объяснялось самоотверженностью земских врачей, в том числе Чехова; им приходилось во всех отношениях несладко: мучили бездорожье, ночные вызовы, отсутствие сносных условий, когда больничные бараки, оборудованные тем, что удавалось выпросить с помощью «нищенского красноречия» производили впечатление «превосходных».
Наше время взять — какое сравнение! Больницы, оборудование — даже в деревне, не говоря уже о районных и областных центрах, – райские рядом с теми, что были. Но всякий честный наблюдатель, положа руку на сердце, скажет, что современные медики вряд ли превзойдут земских врачей в самоотверженности, подвижничестве, сострадании к людям, когда лечение дополнялось, по чеховскому выражению, «ласковостью».
«...Бывают дни, когда мне приходится выезжать из дома раза четыре или пять. Вернешься из Крюкова, а во дворе уже дожидается посланный из Васькино. И бабы с младенцами одолели». (Шубин замечает в связи с этим, что больных, как и летом 1892 года, прошло через руки Антона Павловича более тысячи.)
«...Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры...»
(Через два месяца, комментирует Шубин, он напишет тому же адресату: «Летом трудно жилось, по теперь мне кажется, что ни одно лето я не проводил так хорошо, как это»... Автор книги «Доктор А. П. Чехов» сопоставляет эти слова Антона Павловича со страшными статистическими данными, приведенными Вересаевым: от заразных болезней умирало около 60 процентов сельских врачей; в 1892 году половина всех умерших земских врачей погибла от сыпного тифа. Чехов, по мнению доктора медицинских наук Шубина, не только рисковал собственной жизнью, но и сокращал ее, потому неимоверную нагрузку нес тяжелобольной человек, ему самому требовались покой и лечение.)
«…Когда-нибудь убедятся, что я, ей-богу, хороший медик...»
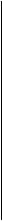
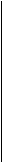

 — Я думаю, что Чехова все-таки надо чать от прочих земских врачей,— полагает Юлий Крелин,— даже в короткий период его непосредственной медицинской работы, например в Мелихово, на Садово-Кудринской в Москве, я лечил скорее из милосердия, будучи интеллигентом, не мог отказать в помощи. Но на врачебные деньги не жил, вообще их обычно не брал, существовал литературными заработками. Писательство давало ему и духовную опору, связи, разнообразило общение. Всего этого не имел, конечно, обычный земский врач, положение которого было гораздо безысходнее, ужаснее, отчего подвижничество не уменьшалось, наоборот, становилось очевиднее...
— Я думаю, что Чехова все-таки надо чать от прочих земских врачей,— полагает Юлий Крелин,— даже в короткий период его непосредственной медицинской работы, например в Мелихово, на Садово-Кудринской в Москве, я лечил скорее из милосердия, будучи интеллигентом, не мог отказать в помощи. Но на врачебные деньги не жил, вообще их обычно не брал, существовал литературными заработками. Писательство давало ему и духовную опору, связи, разнообразило общение. Всего этого не имел, конечно, обычный земский врач, положение которого было гораздо безысходнее, ужаснее, отчего подвижничество не уменьшалось, наоборот, становилось очевиднее...
Слушая Крелина, я думаю о том, какой представлялась Антону Павловичу медицинская наука его времени? Он мог смотреть на нее с трех точек зрения — писателя, врача и больного. Процесс в легких прогрессировал, состояние здоровья заметно ухудшалось, сомнительно, чтобы он, врач, не предвидел печального развития событий. Любой другой больной на его месте, очевидно, не был бы медициной удовлетворен. Но Антон Павлович — у Шубина я читал — органически не переносил необоснованных нападок на врачей и не спускал их даже своему кумиру — Л. Н. Толстому, о котором говорил, что ни одного человека на земле не любит, как его, что без Толстого у него в жизни образовалось бы «большое пустое место».
«...Толстой трактует о том, чего он не знает и чего из упрямства не хочет понять... Его суждения о сифилисе, воспитательных домах… не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжении своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами...»
«Одна хирургия сделала столько, что оторопь берет»,— с удовлетворением констатирует он.
«...Глаза лечат теперь превосходно. Медицина к этом отношении далеко ушла...»
Чехов восхищался достижениями науки, говорил о подвижничестве земских врачей — означает ли это, что доктора являли собой некое живое воплощение заповеди Гиппократа? Совсем, совсем не в чеховском духе была бы такая безмятежная благость. Всякий тотчас же вспомнит Ионыча, доктора Чебутыкина из «Трех сестер», целую галерею других его персонажей, давших повод участникам дискуссии, развернувшейся после смерти писателя, говорить, что «врачебное сословие выродилось и находится на краю бездны».
Чехов в равной степени не терпел фальши, лакировки и обывательского брюзжания, недоговорных оценок. Толстой с высоты, на какую принес его гений, мог и не прочитать каких-то «книжек, написанных специалистами». Но не Чехов, которого Гете привлекал еще и тем, что в нем «рядом с поэтом прекрасно уживался естественник»! Не Чехов, который был увлечен идеями Тимирязева (именно Тимирязеву — доверительное письмо о Толстом), Боткина, университетского учителя своего Захарьина. Не Чехов, который о Боткине говорил, что «в русской медицине он то же самое, что Тургенев в литературе», а Захарьина по таланту уподоблял Толстому!
(Шубин пишет, что, выступая в защиту врачей, Чехов далек от стремления во что бы то на стало защитить честь мундира и не разделяет взглядов прозектора Петра Игнатьевича из «скучной истории», по глубокому убеждению которого «самая лучшая наука — медицина, самые лучшие люди — врачи, самые лучшие традиции — медицинские». Предостаточно он видел среди врачей и невежд и хамов, как и среди людей других профессий.)
«Z. идет к доктору,— описывает Чехов случай, взятый из медицинской практики, — тот выслушивает, находит порок сердца. Z. резко меняет образ жизни, принимает строфант, говорит только о болезни — весь город знает, что у него порок сердца; и доктора, к которым он то и дело обращается, находят у него порок сердца. Он не женится, отказывается от любительских спектаклей, не пьет, ходит тихо, чуть дыша. Через одиннадцать лет едет в Москву, отправляется к профессору. Этот находит соверптешго здоровое сердце. Z. рад, но вернуться к нормальной жизни уже не может, ибо ложится с курами и тихо ходить он привык, и не говорить о болезни уже скучно. Только возненавидел врачей и больше ничего».
Шубин замечает, что достоверный сюжет этот, к сожалению, изредка повторяется и в наше время... Изредка? В почте центральных газет полно сообщений об ошибках в диагнозах, отмененных задним числом, когда уже было провдено «лечение», о мытарствах по консультантам, каждый из которых имеет свое мнение, ставя больного в тупик, о советах местных докторов ехать в область (республику, Москву), где «определят более точно». Правда, в отличие чеховского Z., нынешние больные не склонны доверять первому же диагнозу и с ходу «менять образ жизни». Опыт общения с современной медициной научил скептически воспринимать слова участкового врача, пока их не подтвердят «серьезные специалисты». Хорошего, разумеется, в этом мало, но так укоренилось, и всех устраивает: лечащего доктора освобождает от ответственности, а консультанты, даже в случае бескорыстных советов, лечить не обязаны.
Конечно, в каждом городе назовут и выдающегося врача, которого любят, которым гордятся. На таких испокон века держался, держится и будет держаться авторитет медицины в народе. При любом уровне знаний, достигнутых наукой, истинный врач, как и во времена Чехова, будет способен побеждать болезни даже тогда, когда у него почти нет иных средств, кроме «красноречия» и «ласковости».
-3-
Михаил Булгаков, автор «Мастера и Маргариты», «Белой гвардии», «Театрального романа», окончил медицинский факультет, работал в сельской больнице. Медицина, представленная им в «Записках юного врача», близка по характеру к земской. Очень напоминает чеховские, вересаевские времена...
Как работал булгаковский «юный врач»? Ночь не ночь, пурга не пурга — вскакивай, беги в через темный двор в операционную или садись в запряженные гнедым санки, укутывайся потеплее, чтобы не замерзнуть в пути. А он прямо из университета! И один в больнице, не у кого спросить совета. Ни рентгена, ни лаборатории! «Прощай, прощай надолго, золотокрасный 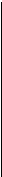
 Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай»!
Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай»!
В первый день пришел в ужас от своей беспомощности, неумелости. «Я ни в чем не виноват,— думал я упорно и мучительно, – у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: «Освоитесь». Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с ней освоюсь? И в особенности каково будет себя чувствовать больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)... А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана?.. Роды-то забыл! Неправильные положения. Что же я буду делать?»
А что делать? Оперировать грыжу, лечить дифтерит, принимать роды. Пот градом, в глазах темно, иногда, прерывая операцию, галопом мчаться через двор к себе домой, лихорадочно листать учебники, справочники, где все, прежде ясное, становится абсолютно непонятным, не имеющим общего с данным случаем.
Привезли ему в первый же день девушку с раздробленной ногой — попала в мялку, которой обрабатывают лен. «Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то... Я умолял теперь судьбу...» В другой раз привезли девочку с дифтерийным крупом в очень тяжелом состоянии. «Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Э, теперь поздно»,— подумал я, взглянув с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив вьюги, в больницу».
Так потянутся его дни и ночи: «...слякоть, туман, черная мгла, в которой тусклыми, расплывчатыми пятнами светились окна фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот».
«Не успел я коснуться подушки...— стук в дверь, привезли женщину из Дульцова с неблагополучными родами. «эх, Додерляйна бы сейчас почитать!» — тоскливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да и в чем бы помог мне в этот момент Додерляйн?» Но потом, когда он в начале второго ночи вернется к себе, произойдет интересная вещь: он откроет Додерляйна, начнет читать — и «все прежние темные места сделались совершенио понятными, словно налились светом, и здесь, при свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание». «Большой опыт можно приобрести в деревне,— думал я, засыпая,— но только нужно читать, читать...»
Юные врачи, показанные нам Михаилом Булгаковым, пройдя через страдания и ужасы, становились врачами настоящими. Они умели все, не списывая на «узкую специализацию», как терапевт, приглашенный мною однажды из поликлиники.
Но подходя к кровати больной, врач определила: «грипп, сейчас такой вирус», выписала бюллетень, таблетки и ушла. «Но боли!» — я задержал ее у лифта. «Пусть утром обратится к хирургу, это не по моей части». А ночью врач «Скорой» поставила совершенно другой диагноз и отправила на срочную операцию: боли стали нестерпимыми. Оказалось, что, как только появились боли, надо было немедленно опериро 
 вать! «Узкой специалистке» с модными удлиненными серьгами в ушах это не пришло в голову. Не только о черствости тут речь — элементарная невежественность в смежной области медицины. Врач понятия не имела, насколько опасным было положение.
вать! «Узкой специалистке» с модными удлиненными серьгами в ушах это не пришло в голову. Не только о черствости тут речь — элементарная невежественность в смежной области медицины. Врач понятия не имела, насколько опасным было положение.
Какое уж сравнение с тем, о чем нам поведал Михаил Булгаков! Свои записки врач и писатель закончит такой фразой: «Значит, нужно покорно учиться».
Date: 2015-10-18; view: 382; Нарушение авторских прав