
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прошелестит серебряно крыло
|
|
Механик — математик — искусствовед: психология покорения пространства
-1-
 Я сказал академику Раушенбаху, что прочитал все написанные им книги. Первой его реакцией было: «Сумасшедший!» Затем: «Несчастный...» И наконец: «Так что же вы в них поняли?»
Я сказал академику Раушенбаху, что прочитал все написанные им книги. Первой его реакцией было: «Сумасшедший!» Затем: «Несчастный...» И наконец: «Так что же вы в них поняли?»
Что может понять гуманитарий в работах о вибрационном горении и выборе рациональной меры устойчивости самолета?
Я искал в них связь с искусством. Неужто человеческая душа наглухо разделена непроницаемыми перегородками, подобно отсекам корабля? Странная мысль пришла мне в голову. Показалось, стоит расслабиться, довериться кабалистике таинственных знаков, и сквозь туман описываемых автором вибраций под крылом самолета, обретшего наконец желанную устойчивость, серебряно прошелестят рублевские ангелы... Мне хотелось прорваться в иную стихию, в другую галактику человеческого сознания, туда, где формула — ничто, а образ — все, где алгебру теснит гармония и слова обретают упругость, наливаясь ветром поэтического смысла.
В труде, посвященном теории горения, я читал о «фронте пламени», и страшная круговерть огня виделась мне: пожар в таежной глуши, грозный гул, мчащиеся в ужасе животные, черное, как икона, лицо обросшего геолога, предсмертные крики птиц... «Идеализация возму  щенного процесса» что-то говорила мне о смутном времени, полемике историков, крестьянском бунте... «Определим секундное тепло» — лирика? Заблудившаяся поэтическая строка? Вспомнилось в одном из переводов Светлова: «Совсем недолго длится срок тепла...»
щенного процесса» что-то говорила мне о смутном времени, полемике историков, крестьянском бунте... «Определим секундное тепло» — лирика? Заблудившаяся поэтическая строка? Вспомнилось в одном из переводов Светлова: «Совсем недолго длится срок тепла...»
Сугубо технические сочинения Раушенбаха мое воображение наделяет причастностью к художничеству, и я уже не сомневаюсь, что найду невольно вырвавшееся, незаметное для самого автора упоминание о кисти или карандаше. Оговорку другой, поэтической части его души, на миг — так мило! — перепутавшей время и место.
Уже отзвуки музыки обнаружили себя в «гармонике длинных труб», выскочивших неведомо откуда среди застегнутых на все академические пуговицы дефиниций. Чувствую, всей кожей своей ощущаю близкое присутствие карандаша. Или все-таки это будет кисть? Вот здесь, сейчас, через несколько страниц, в следующем абзаце, в любой строке... Есть! Не могло не быть! Почти посредине монографии «Вибрационное горение», на 381-й странице, нахожу и выписываю фразу:
«Ставить вопрос о «первой причине» в этом случае столь же нелепо, как искать первую причину того, что карандаш, поставленный на остро отточенное острие, тут же падает».
Нелепо ставить вопрос о «первой причине»?! Но именно с таким вопросом собирался я идти к академику Раушенбаху! От него самого хотел узнать, как стал он, известный специалист по системам управления, механик и математик, доктор технических наук, автором книг о живописи. Книг, получивших признание специалистов Эрмитажа и Третьяковки, выпущенных после одобрения ученым советом Института искусствознания, перевернувших некоторые казавшиеся незыблемыми представления о творчестве Андрея Рублева, Дионисия, Феофана Грека, мастеров Древнего Египта, Индии, Ирана, манере письма Сезанна?!
Поэтому и искал я в работах профессора Московского физико-технического института, действительного члена Международной академии астронавтики, признаки художественного восприятия жизни. А когда нашел — так мне показалось,— составил себе гипотезу о его судьбе.
Скорее всего, решил я, алгебра и гармония существовали в нем всегда. Увлечение живописью наверняка было острой потребностью с детства. Возможны собственные этюды, коллекционирование книг по искусству. Обнаружится, видимо, и любимый учитель — физик или математик, увлекший впечатлительного мальчишку в другую сторону. Он до последнего момента колебался, не понимал себя, мог пойти в Суриковское, мог и в авиационный. И все же предпочел лирике физику. Эта страсть предопределила увлечение планерами, авиацией, разработку теории управления летательных аппаратов, причастность к освоению космоса, совместную работу с Сергеем Павловичем Королевым... Душа, однако, сопротивлялась искушению, и в какой-то переломный момент пробудилась, поднялась во весь рост вторая сторона его натуры. Лирика стала занимать в сердце все большее место. Пока и она не превратилась в дело жизни.
Так я себе вообразил, когда шел к Борису Викторовичу.
—  Ничего похожего! — академик Раушенбах выливает на мою голову холодный душ.— Откуда вы взяли? Гипотеза неверна.
Ничего похожего! — академик Раушенбах выливает на мою голову холодный душ.— Откуда вы взяли? Гипотеза неверна.
— Но разве не увлечение живописью привело вас к искусству?
— Нет, не оно... Да и не было его, по совести говоря. Конечно, я посещал музеи, не дикарь все-таки, проглядывал попадавшиеся альбомы. Но в общем был к этому равнодушен. Всерьез обратился к живописи из чисто практических соображений. Как вам объяснить... Я разрабатывал системы ручного управления космических аппаратов и прочих объектов та кого типа, где у пилота нет прямой видимости. В самолете, автомобиле можно смотреть через стекло, а здесь перед глазами перископ или телевизионный экран. И возникает проблема: как провести, допустим, ручную стыковку двух космических аппаратов, если смотришь на экран и
не видишь ничего собственными глазами?
— Да живопись-то здесь при чем?!
— Задача, которую я решал как техник,— насколько правильно экран передает зрительное восприятие — аналогична вопросу о том, верно ли художник передает пространство. Вы полагаете, верно?
— Репин, по-видимому, верно, а какой-нибудь авангардист...
— И Репин, и кто угодно! Правильно передать пространство живописец не в силах. Ошибки неизбежны. Я находил их на фресках Рафаэля, в картине Ю. Пименова «Перед выходом на сцену», в «Песне» у Филатчева, в творении Паоло Веронезе «Пир у Левита» — нарочно беру мастеров разной степени дарования, далеких друг от друга эпох и школ. Поймите, неточности, искажения в передаче пространства объективно неизбежны, от мастерства это не зависит. Если нужно правильно выписать пол, художник передаст с незаметными искажениями стены. Когда важнее боковая стена, он неточно изобразит пол, потолок и дальнюю стену... Единственное, чего нельзя сделать,— показать зрителю все элементы рисунка без ошибок. Я говорю, конечно, не о соответствии художественному замыслу. Тут у мастера отклонений нет. Речь о другом: насколько соблюдена согласованность масштабов при изображении предметов, находящихся на разных планах? Точно ли передана глубина?
— И что же?
— А то, что ренессансная перспектива, например, открытая великими мастерами Возрождения, передает подобия без искажений. Зато масштаб — с большими ошибками! Если же попытаться сохранить сходство нарисованных предметов с реальными прототипами, да еще при этом уменьшить ошибки масштаба, то сразу же резко исказится передача глубин. А когда вы поставите себе целью точно охватить масштаб, что автоматически ведет к соблюдению подобий, то ошибок глубины будет еще больше. Своего рода тришкин кафтан. И тут бессилен даже Леонардо! Самое интересное — обнаруживается своеобразный закон «сохранения ошибок в живописи»…
— Как бы вы сформулировали его?
— Надо подумать... Пожалуй, так: «Можно перемещать ошибки с одного элемента картины на другой, но нельзя уменьшить суммарное значение их». Да, что-то в этом роде... При любом варианте, избранном художником, в целом ос  тается один и тот же процент искажений. Как говорится, хоть тресни! Но мы, кажется, отвлеклись?
тается один и тот же процент искажений. Как говорится, хоть тресни! Но мы, кажется, отвлеклись?
— Я спрашивал, почему вы обратились к искусству, и вы сказали: из практических соображений...
— Да, пошел от техники. Первоначально на опыте живописи решил понять механизм передачи зрительного восприятия пространства для своих профессиональных целей. Но по мере того, как я проникал в искусство, увлечение нарастало. Открылись вещи, о которых даже не подозревал...
-2-
Впервые я увидел Раушенбаха в Доме ученых на диспуте о пределах интеллектуальных и духовных возможностей человека.
Мой друг Игорь Бубнов, придумавший этот вечер, оказался в трудном положении. Из зала, набитого до отказа, летели записки. Молоды физики, психологи, математики, литераторы, биологи, педагоги, художники рвались к микро фону, посылали голубей согласия и острые копья спора:
—...Вы хотите, чтобы человечество вели дилетанты?!
—...Леонардо доказал...
—...Оставьте Леонардо! Сегодня любой аспирант...
—...Причем здесь сумма информации? Да, мир изменился, но разве сузилось вместилище души?..
—...«Душа обязана трудиться?» Заболоцкого читали еще в школе!
—...Томас Манн говорил: талант — это способность обрести собственную судьбу...
—...Полная отрешенность, я утверждаю, растворение себя в одном деле, одной идее, одной жизни — в наш век только так!..
—...писатель Гарин-Михайловский...
—...Почему писатель? Гарин-Михайловский был выдающимся инженером своего времени...
—...Своего! А время — общее! Инженерами в сознании человечества остались фанаты двигателей. Вот Дизель был инженер!
—...А что для Бородина хобби? Музыка? Химия?
— Да перестаньте наконец тревожить великие тени! Посмотрите в зал! Оглянитесь на своих друзей и подруг: многие ли сегодня...
— «Делай великое, не обещая великого». Прошу прощения, это Пифагор…
Борис Викторович Раушенбах взирал со сцены на зал со спокойствием олимпийца. Я пытался угадать причину: хладнокровен ли по натуре или неосновательность молодых спорщиков, превращающих серьезный разговор в турнир эрудитов, вызывает у него тщательно скрываемое раздражение? А может быть, опыт собственной жизни кажется достаточным ответом?
Так или иначе, но Раушенбах был сух, краток, придерживался, видимо, заранее определенных для себя рамок. Стоял на своем: пределов нет, если затраты труда соразмерны с масштабами таланта.
Спасая вечер (Игорю казалось, что надо «спасать», а на самом деле было интересно), Бубнов одного за другим выпускал на арену новых представителей «племени ненасытных».
Театрально читала свою повесть актриса Екатерина Маркова, гремел, апеллируя к поэзии и науке, бас Вадима Рабиновича, члена Союза писателей и кандидата химических наук, автора книги стихов «В каждом дереве — скрипка» и фундаментальной работы «Алхимия как феномен средневековой культуры»...
По праву ведущего (интервьюера, интерпретатора, комментатора) блистательный наш Игорь, стройный, красивый, седовласый в свои сорок с небольшим — след ударов нелегкой его судьбы,— заведенный до отказа человек-пружина, забывая о себе, перекидывал ответы залу, ловил на лету шары вопросов и снова швырял их в ораторов: «Не мешают ли разные занятия основному делу?.. миновал ли век Леонардо?.. не пришла ли на смену «физикам» и «лирикам» пора физико-лириков?.. не разрушает ли НТР личность?.. куда влечет нас «жалкий жребий»: к монопрофессии или к полифонии творчества?.. как понимать гармонию?..»
Я сказал: «...забывая о себе». А ему бы вспомнить! Взять микрофон не для вопросов. Взглянуть залу в лицо...
Разве собственная твоя жизнь, Игорь, не ответ на летящие из аудитории стрелы?
Можно ли совмещать... Да не ты ля, Игорь Бубнов, кандидат технических наук, выпускник инженерной академии, был великолепным историком, написал книги о выдающихся отечеств венных и зарубежных пионерах космонавтики? Не ты ли, «технарь», выступал с публицистическими статьями и эссе в литературной печати, возглавлял отдел в «Новом мире», где по смертно вышел прекрасный очерк твой «Пред будущим мы только дети...»? Эти слова выбиты теперь на камне твоей могилы... Фотограф, оставивший художественные портреты Мартироса Сарьяна, автор репортажей для телевидения о психологии спорта на Всемирной Олимпиаде, лектор, научный сотрудник академического института, мастер в нескольких видах спорта, сценарист передачи «Очевидное — невероятное», организатор и руководитель студии молодых тележурналистов в МГУ...
Можно ли успеть... Не ты ли, всегда подтянутый и стройный, чем-то похожий на римлянина времен Цезаря — еще бы тогу! — сросшись с неизменным своим автомобилем, мчался в редакцию, научную лабораторию, архив, на «Циолковские чтения» в Калугу? Замкнутый и общительный, суровый и нежный — как такое могло сочетаться?! — успевал до утра писать, запоем читать, дружить с известными актерами, писателями, художниками, учеными... При энциклопедической образованности поражал детской незащищенностью...
Не ты ли, Игорь, презирал жизнь-существование, исповедуя жизнь-творчество и даже жизнь-самосожжение?...
Еще сутки после остановки сердца сидел он в привычном своем кресле над письменным столом у поникшей машинки... Таким мы застали его с актером Львом Дуровым, когда друзья взломали дверь «бубновской берлоги», маленькой, забитой книгами квартиры, напоминавшей лавку древностей,— с диковинными самоварами, хомутами, старыми иконами, вышедшими из употребления табличками давно переименованных московских улиц, семейными альбомами неизвестных лиц времен начала фотогра 
 фии, афишами с дарственными надписями актеров театра на Таганке и «Современника», пожарными касками, в которых, наверное, мчались на тройках брандмейстеры в годы Гиляровского, прялками, примусами и прочим невероятнейшим «хламом», милым его сердцу историка и коллекционера...
фии, афишами с дарственными надписями актеров театра на Таганке и «Современника», пожарными касками, в которых, наверное, мчались на тройках брандмейстеры в годы Гиляровского, прялками, примусами и прочим невероятнейшим «хламом», милым его сердцу историка и коллекционера...
...Тогда, в Доме ученых, оставалось уже совсем немного до трагического прощания, но что мы могли об этом знать?..
О да, ему следовало взять микрофон! Я помню, как выступал он в переполненном клубе Московского университета, как свободно, на равных, дискутировал в Центральном доме литераторов о космонавтике с космонавтом Константином Феоктистовым — своим соавтором по книге «Звездолеты». Талант оратора и педагога был щедро отпущен ему среди многих прочих дарований.
...Игорь не сказал, теперь уже и не скажет...
Что-то важное, общее для всех нас осталось в том зале. Растворилось в шуме, унеслось с ветром распахнутых дверей, с затухающими голосами недоспорившых бородачей, с последним переливом старинного валдайского колокольчика, который Игорь принес на диспут из домашней «лавки древностей», чтобы подчеркнуть связь времен в человеческом бытие; вспыхнуло и погасло в ночном небе над Кропоткинской, над Новодевичьим, у дальних застав...
Я пытаюсь их подхватить, эти искорки улетевшие, вдыхаю с пропитанным хвоей, вышитым золотом по зеленому утренним воздухом, что врывается в дачное мое окно. И кажется, стоит лишь протянуть руку, подобно антенне, извлекающей из пустоты голоса...
«А все-таки она вертится!» — мысленно кричу я в будущий зал Дома ученых, где спор о пределах интеллектуальных и духовных способностей человека уже достиг своего апогея...
-3-
Сначала Раушенбах занялся проблемами перспективы в древнерусской живописи. Знакомился с собраниями музея Рублева, Третьяковки, соборов Кремля. Объездил во время отпуска на своей машине города «Золотого кольца» — Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Юрьев-Польской... Побывал в Новгороде и Пскове, посетил вологодский север с его знаменитым Ферапонтовым монастырем...
Сотни и сотни книг прошли через его руки, постепенно росла и собственная коллекция альбомов. Это накатывалось волной, перерастало в страсть.
Вслед за Рублевым, Дионисием, Греком ворвались в его жизнь другие средневековые живописцы — китайские, японские, персидские... Отсюда естественным показался ему ход к искусству Возрождения и далее — к живописи конца прошлого века, к Сезанну в частности, а затем и к мастерам современности. Сопоставлял, протягивал нити из Вологды в Египет времен Фараонов, из Египта — в Бомбей и Пекин, из Пекина — во Флоренцию и Париж... Скрупулезно отмечал различия, выводил принципы и осмысливал идеи. По камешку, по кирпичику собрал фундамент своей «Общей теории перспективы». И само собой, не мог же серьезный чело 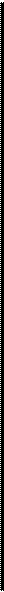




 век закончить свой труд нечаянным изобретением велосипеда! — надо было изучить работы специалистов, занимавшихся до него вопросами перспективы в живописи.
век закончить свой труд нечаянным изобретением велосипеда! — надо было изучить работы специалистов, занимавшихся до него вопросами перспективы в живописи.
Вечера, воскресенья, отпуск — живописи, насыщенный день — механике, математике, системам управления.
— Все шло параллельно. Специального времени на это у меня, конечно, не было. Пять лет заняла первая книга о живописи, еще пять — вторая, и на третью, похоже, уйдет пять...
«Человек должен быть уверен, что непонятное доступно пониманию, иначе он не стал бы исследовать» — эти слова Гете ставит он эпиграфом к своей книге.
Раушенбах не затрагивает чисто художественные задачи, не касается цвета, светотени, он вычленяет для себя лишь пространство картины, понимая, конечно, что это условно, и суживает обзор. Но и передача пространства для художника — одна из серьезных проблем. Именно коренные отличия в отображении пространства прежде всего «шокируют» современного зрителя, когда он вглядывается в работы средневековых мастеров.
Иконописцы ограничивали глубину пространства — делает он первую группировку по существенному признаку. Сразу за персонажами — золотой фон, завеса или стена здания. Зачем? Чтобы оправдать отсутствие изображения дали? Конечно! Даль плохо увязывается с аксонометрическим изображением близкого переднего плана. А средневековые мастера — это очевидно — работали в системе аксонометрии…
Термин звучит «грозно» для непривычного уха, но дело «простое»: рисуй параллельными все линии, которые параллельными видишь в натуре. Метод возможен лишь для близкого переднего плана, иначе абсурд.
Однако иногда требовалось что-то изобразить в отдалении. Вглядевшись, он понял: средневековый художник не плавно, как сделал бы современный мастер, а скачкообразно переходил от одного пространства к другому. Но переход обязательно должен был быть замаскирован. Бориса Викторовича поразило, как исключительно тактично сделано разделение двух планов в «Троице» Андрея Рублева. Почти слившиеся изображения крыльев ангелов создали оригинальную «завесу». Она спрятала переход от близи к дали, где расположились важные для художника с идейно-символической точки зрения строения, мамврийский дуб и горы. Неудивительно, что картина Рублева сразу же стала образцом для русских иконописцев.
«Особенно интересны композиции,— записывает Раушенбах,— где по логике события надо показать направление, перпендикулярное нижнему срезу иконы». Река Иордан, допустим, должна течь на зрителя или от него, поскольку Иоанн Креститель и ангелы по традиции располагались на разных берегах. Как быть? Художник нашел выход: обозначил лишь небольшой участочек реки в неглубоком пространстве картины, а затем воду «оборвал». Справа и слева от условного горизонта изобразил горы, четко ограничив глубину.
Со времен мастеров Возрождения и до наших дней все живописцы уменьшают размер предмета по мере удаления. Самые дальние дома или деревья — едва видимые точечки на горизонте. Но в аксонометрии («вижу параллельное — рисую параллельное») способ этот принципиально неприемлем. Расположение фигур по вертикали, одна выше другой, в древнерусской живописи становится четким художественным приемом. Так поступали, чтобы подчеркнуть глубину: выше — значит дальше!
— Знаете, о чем я подумал, вглядываясь в некоторые древнерусские произведения искусства, например фреску Дионисия «Брак в Кане Галилейской» из Ферапонтова монастыря или «Успение» конца XIV века, предположительно кисти Феофана Грека? — говорит Борис Викторович.— Не удивляйтесь и не посчитайте кощунственным по отношению к замечательным русским художникам — о фланце! Конце трубы с ободом и монтажными отверстиями...
— Какая связь?
— Иконописцы пользовались и чертежными методами. Конечно, это было особое «черчение», род художества. Но я фланец не случайно вспомнил. Присмотритесь к фреске «Троица» из киевского Софийского собора. Крышка стола фрески, как и фланец на современном техническом чертеже, развернута «на зрителя». Изображены под прямым углом к горизонтальной плоскости трубы и стола... На примере многих других икон видно, что круглый стол показан сразу в двух проекциях — сбоку и сверху, в том же духе, как инженер изобразил бы фланец...
— Неумения рисовать здесь не заподозришь. В праздничных рядах иконостасов Благовещенского собора в Москве и Троицкого в Загорске, созданных при участии Феофана Грека, Прохора из Городца, Андрея Рублева и Даниила Черного, столы на иконах «Тайная вечеря» показаны полными овалами, примерно так же сделал бы и современный художник. И тем не менее Грек пишет свою «Троицу» для Новгородского храма Спаса Преображения за столом, показанным в условно чертежной манере.
Раушенбах предлагает сопоставить разрез электронного устройства на техническом чертеже, где за раздвинутой влево и вправо крышкой видна внутри плата со схемой, и икону XVII века «Положение ризы господней», на которой изображен Успенский собор Московского Кремля,— часть стены поднята, подобно театральному занавесу, и мы видим внутри фигуры царя и патриарха со свитами, идущих к месту торжества. Сходство приемов очевидное. Кстати, пять глав Успенского собора даны в развертке — типично чертежный прием.
— Сюжеты древнерусских мастеров были связаны с религиозными представлениями. Это ставило перед художником сложную задачу. Два мира — «видимый» и «невидимый» — в средние века предполагали существующими одновременно, в одной и той же области пространства. Такое не просто изобразить. И что любопытно,— говорит академик Раушенбах,— если попытаться дать математическую интерпретацию, выходит, что от художника требовалось изобразить... четырехмерное пространство! Трехмерное, объемное — это реальность. А вот четырехмерное... Между тем современная геометрия знает Многомерные пространства и изучает их свойства. Формально они даже поддаются математическому описанию, но изобразить их невозможно. Все, что человек способен увидеть,— трехмерно. А средневековому мастеру надо было художественными средствами выразить 

 мысль, по тогдашним представлениям бесспорную, что в обычном трехмерном объеме, скажем, в этой вот комнате, где мы с вами беседуем,— Борис Викторович смеется, заметив, что я невольно начинаю оглядывать кабинет, будто жду, что ангел высунет крылышко между столом и диваном,— да, да, вот здесь, допустим, могут независимо и одновременно существовать разные жизни. Мы и еще «нечто»...
мысль, по тогдашним представлениям бесспорную, что в обычном трехмерном объеме, скажем, в этой вот комнате, где мы с вами беседуем,— Борис Викторович смеется, заметив, что я невольно начинаю оглядывать кабинет, будто жду, что ангел высунет крылышко между столом и диваном,— да, да, вот здесь, допустим, могут независимо и одновременно существовать разные жизни. Мы и еще «нечто»...
— Могут?
— Только разве что в форме математической условности... Все это невозможно представить наглядно, но я попытаюсь пояснить способом аналогии. Предположим, вы берете бесконечно тонкий лист бумаги. На двух его сторонах могут происходить события, не мешающие друг другу. Понятно?
— Пока — да...
— Хитрость в том, что я употребил выражение «бесконечно тонкий». Бесконечно! Значит, эти два пространства будут сдвинуты друг от носительно друга на бесконечно малую «толщину». Так? Теперь допустим, что по каждой стороне нашего прозрачного листочка ползают некие плоские «двухмерные» существа. Совсем рядом с ними соседняя плоскость, где такие же, как и они. И если эти плоскости «слить» до бесконечно малого расстояния, то существа будут передвигаться в бесконечно малой близости, не соприкасаясь друг с другом телесно, так как не
могут перейти границы третьего измерения, пусть и бесконечно малого. Геометрия сегодня в силах это описать, но как изобразить? Отнюдь, не простая задача...
— Не хотите ли вы сказать этой «моделью двух жизней», что средневековый человек...
— Да он и понятия о таких вещах не имел! Но приведенная аналогия показывает задачу иконописца. Мистическое и обычное пространства для него лишь отчасти независимы. Они связаны, пусть не материально, а духовно, скажем, молитвой. Но как это изобразить?
— В самом деле?
— Средневековые мастера нашли способ. Из той же области художественного черчения... Как инженер показывает, допустим, внутреннюю часть трубы? Прерывает изображение в каком-то месте, делает сечение и окрашивает открывшуюся за этим «занавесом» часть другим цветом, заштриховывает. Примерно так поступал и древний живописец, сохраняя единство мистического и реального пространства. Прерывал изображение одного, когда нужно было показать другое. Методом сечения.
Вот новгородское «Успение», приписываемое Феофану Греку. Во всяком случае, создано под сильным его влиянием. Конец XIV века. Мастер обдумывал сюжет: Богоматерь скончалась, окруженная скорбящими апостолами, а ее Душа была взята на небо явившимся для этого Христом. Что делает художник? Сечением прерывает изображение архитектурного фона. На иконе получается не одно, а два пространства: реальное, к которому принадлежит ложе Марии, апостолы, святители и архитектура, и мистическое — с Христом. Художник всячески подчеркивает, что область мистического невидима для людей, окружающих ложе. Взоры всех обращены к Марии, никто не смотрит на Христа, хотя совершенно очевидно, что появление его среди учеников потрясло бы их. Тем более что появляется он в сияющих одеждах. Нет, никто его  не видит! Только Марию! Художник наглядно показал: Христос в ином пространстве.
не видит! Только Марию! Художник наглядно показал: Христос в ином пространстве.
— Пожалуй, такому решению нельзя отказать в логичности и остроумии. В самом деле, как это еще можно было бы показать?
— Нарисовать боженьку, сидящего на кучевых облаках... Так стали передавать границу между видимым и «невидимым» мирами со времен Возрождения. Вероятно, с тех пор и возникло представление, что бог и ангелы «живут в облаках», над чем справедливо потешаются современные карикатуристы. Геометрически очевидно: облака могут разделить лишь два участка реального — трехмерного — пространства. А не два слоя воображаемого четырехмерного мира. Требование «естественности» привело к нелепому. «Заоблачный» мир стал изображаться теми же красками, что и земной. С точки зрения геометрической логики позднейшие художники сделали шаг назад по сравнению с Рублевым, Греком, Дионисием. Скажу вам, что в их произведениях логически безупречные композиции на тему «Успение» и сейчас создают эффект математической строгости, внутренней непротиворечивости. Великие мастера не знали современной геометрии многомерных пространств, но им были присущи огромное художественное чутье и столь глубокие размышления что они стяжали право называться «преславными мудрецами, философами зело хитрыми» Поставленные перед проблемой непротиворечивой увязки мистических преданий и повседневного человеческого опыта, они были вынуждены строить логическую систему, которая оказалась гениальной догадкой, своего рода интуитивным предвосхищением новейшей геометрии.
В средневековых композициях «Распятия» земля у основания креста дается в разрезе, с изображением непосредственно под крестом лежащих в могиле черепа и костей Адама. Такое совместное расположение останков и распятого символизирует кардинальную идею об искуплении Христом греха Адама. В эпоху Возрождения, когда чертежные приемы были изгнаны из арсенала художника, изобразительные средства для важнейшей христианской идеи об искупительной жертве оказались утраченными. Вынужденный отказ от средневековой иконографии, вероятно, ощущался художниками как потеря. Это привело к появлению разных типов «Распятий». В наиболее «естественных» из них череп Адама вообще не фигурирует. Возникло много таких, где череп лежит у основания креста или в некотором отдалении от него, и даже такие появились, где на Голгофе разбросано много черепов и костей, не только у распятого Христа, но и у крестов разбойников. Стремились к правдоподобию, а пришли к нелепости,— говорит Борис Викторович.— Как можно убедительнее объяснить появление останков праотца на Голгофе?
— Словом, «чертежная живопись» не дает оснований для снисходительных интонаций по отношению к древнерусским иконописцам?
– О «неумении» речи не может быть. Чертежные методы составляют закономерную особенность изобразительного искусства той эпохи.
– Если «закрыли» этот прием художники Возрождения, то кто «открыл»? Средние века?
– Отвечу примером. На иконе XVII века изображен план Троице-Сергиева монастыря. Художник явно преследовал цель передать истинное расположение стен, башен, церквей, не пропуская даже самого второстепенного строения. Однако план этот весьма далек от современного. Все строения даны в условном повороте — вид сбоку, как их и видит пришедший в монастырь человек. Так вот, древний египтянин, живший за 2000 лет до нашей эры, безусловно, свободно прочитал бы эту картину.
— Вы хотите сказать, что египтяне...
— В Древнем Египте подобные приемы использовались широко. Я в этом лично убедился,
можно сказать...
— Съездили... в Древний Египет?
— Искусство тем и хорошо, что позволяет, сидя на месте, побывать где угодно...
И в рисунках древних египтян Раушенбаху| не раз попадались чертежные приемы. Вот разрез: корзина с плодами, из которой «вынута» часть стенки, чтобы видно было содержимое.. Вот разномасштабность: птицы на ветвях деревьев столь огромны, что непонятно, как их удерживают ветви. Но зато видно каждое перышко!..
Еще занятная вещь: яства на столе лежат друг над другом, едва соприкасаясь, так они фактически лежать не могут. Знаки яств? Знаковая система в целях передачи информации?..
— Следует ли вас так понять, Борис Викторович, что древнеегипетские живописцы не были художниками в высоком смысле слова?
— Ни в коем случае! Я не допускаю и мысли, что анализируемый мною метод может быть истолкован как утверждение малой эстетической ценности искусства древних египтян.
— Скажите откровенно, вам самому доставляла ли египетская живопись удовольствие?
— Огромное... Понимаете ли, рисунки носили плоский характер, и для их выразительности требовалось художественное совершенство. В отличие от Возрождения, главенствовала линия, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия. Я смотрел рельеф эпохи Эхнатона, где воины бегут гуськом, и поражался гармонии. Один от другого отличается одеждой, вооружением, но какая ритмика! А возьмите деталь из рельефа Среднего царства, где служанка причесывает госпожу,— композиция из трех рук: отдыхающей руки госпожи и занятых прической — служанки. Скупые средства, но бесподобное совершенство! Немыслимо изменить ни одного элемента... Чертежные условности сдерживали, понятно, однако и создавали богатые возможности для композиции.
Он уточняет: имеется в виду лишь живопись, отнюдь не скульптура.
— Если сравнить скульптуру Древнего Египта, Греции, Рима, готическую скульптуру Европы, скульптуру эпохи Возрождения и, например, работы Родена, то при различии художественных образов, все они достаточно близки к натуре, а в смысле использования изобразительных средств в некотором роде «однотипны».
— Что подумал бы древнеегипетский скульптор, увидев, предположим, Давида Микеланджело?
— Вероятно, мог бы удивиться теме, художественному образу. Но не сомневаюсь, что пластическое искусство мастера оценил бы.
— Если работы скульптора поддаются сопоставлению, то почему бы не представить их в некоем общем ряду?
– Я думаю, на условной шкале абсолютных 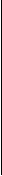







 художественных ценностей древнеегипетский скульптурный портрет Нефертити, готическая скульптура Уты из Наумбургского собора и Мадонна Микеланджело из капеллы Медичи заняли бы приблизительно одинаковые места, без скидок на ограниченность мастерства более ранних скульпторов. Никто бы не заикнулся о «наивности»! Но очевидное для скульптуры часто не считают справедливым при оценке работы древних живописцев. Сравнивая средневековых мастеров с мастерами Возрождения, пишут: «Здесь художник еще не умел правильно строить перспективу». И ссылаются на каноны, традиции, видя в них оправдание «несовершенства». Неужели скульпторы древности были талантливые и даже гениальные, а живописцы до эпохи Возрождения — лишь ремесленники, наивные, неумелые, недоросшие и прочее?
художественных ценностей древнеегипетский скульптурный портрет Нефертити, готическая скульптура Уты из Наумбургского собора и Мадонна Микеланджело из капеллы Медичи заняли бы приблизительно одинаковые места, без скидок на ограниченность мастерства более ранних скульпторов. Никто бы не заикнулся о «наивности»! Но очевидное для скульптуры часто не считают справедливым при оценке работы древних живописцев. Сравнивая средневековых мастеров с мастерами Возрождения, пишут: «Здесь художник еще не умел правильно строить перспективу». И ссылаются на каноны, традиции, видя в них оправдание «несовершенства». Неужели скульпторы древности были талантливые и даже гениальные, а живописцы до эпохи Возрождения — лишь ремесленники, наивные, неумелые, недоросшие и прочее?
— Однако современный зритель древнюю скульптуру и живопись воспринимает совсем неодинаково, не так ли?
— Именно так! К скульптуре он подходит почтительно, как к работе, достойной «уровня его цивилизации», а к росписям со скептицизмом—«примитив». Впрочем, это естественно. Сказывается колоссальная разница в изобразительных средствах далеких эпох. В живописи все изменилось — художественная направленность, образ, геометрия изображения. А скульптура куда меньше претерпела перемен. Невозможно судить о правильности построений, характерных для передачи пространства на плоскости в памятниках Древнего Египта или средневековых русских иконах, основываясь на геометрических канонах мастеров русской живописи XVI—XIX веков. Те и другие приемы в равной степени условны и одинаково математически обоснованы.
— Сравнивать нельзя?
— Оценивать по чужим меркам нельзя! Вы ведь не оцениваете балет с точки зрения оперы?
Смешно утверждать, что «в балете актриса уже свободно перемещается по сцене, но еще не умеет петь». Представьте себе, это совершенно аналогично рассуждениям о том, что «художник еще не умеет строить перспективу»...
-4-
Обретение второй профессии в зрелые годы, когда многого достиг в другой области, когда пришли к тебе прочное положение, известность, материальное благополучие, вещь отнюдь не простая. Но радость узнавания, погружение в неведомое, что едва не прошло мимо тебя, искупают жертвы.
Перебираясь потихоньку от монографии к монографии, дошел он до П. А. Флоренского. Впервые открыл его для себя, восхитился: вот это стоящая работа! Прав, прав Флоренский: линейная перспектива, символ веры художников возрождения, не является единственно допустимой. Жаль, вторая часть исследования не была написана, и точка зрения Флоренского о причинах возникновения в древнерусском искусстве обратной перспективы осталась неизвестной... Почему она возникла, загадочная, вызывающая кривотолки и споры, недоумения современных зрителей? Почему удаленные части предметов мастера изображали увеличенными? После Флоренского понял: никто не поможет, двигаться к цели надо самому...
Хочу показать вам один только шаг его движения, вполне в духе Раушенбаха: положить рядом несовместимое, чтобы найти родственное. Он рассматривает «в стык» миниатюру VII ве4 ка из Ватиканского свитка Иисуса Навина, где! «отчетливо ощутима античная традиция»: воины в шлемах, с копьями и щитами, в живых позах, один даже спиной, и... «Автопортрет» Ким Хон До, корейского художника XVIII века, живопись на бумаге. Разница в тысячу лет Что общего? Сцена с воинами, отмечает он, не содержит никаких геометрических искажений фигур, несмотря на разнообразные ракурсы. Почему же тогда удаленная часть подножия трона больше ближней?
На корейской картине художник сидит в позе йоги, а столик слева от него и лежащие предметы даны в легкой обратной перспективе. Вопрос тот же: почему?
Два произведения, принадлежащие разным эпохам и культурам, приходит он к выводу, говорят о существовании общей причины. Художники передавали пространство таким, каким они его видели. В этом отгадка! Удаленные части предметов казались им большими но размеру.
Почему они так видели, а мы нет? «Дрессировка!»— неожиданный ответ Раушенбаха.
— Мозг подвержен внушениям... Вспомните свои детские книжки, затем фотография, кино, телевидение, картинные галереи — мы с малолетства привыкли к изображениям, где параллельные линии по море удаления сходятся. В этом смысле я и говорю, что линейная перспектива давным-давно «отдрессировала» современного человека. Если хочешь увидеть хотя бы слегка расходящимися, надо преодолеть «дрессировку».
— Трудно представить... и преодолеть...
— Тем не менее в средневековье видели иначе.
В «шкатулку» его наблюдений падает любопытный аргумент — ссылка на докторскую диссертацию И. П. Глинской о детских рисунках: обратная перспектива — характерная особенность художества малышей; исследования показали, что она не может быть сведена к «детскому неумению». Может быть, «неотдрессированные» маленькие рублевы видят мир глазами далеких предков?
Строгий и пунктуальный исследователь, он не позволяет себе увлечься крайностями. С поразительным упорством изучает произведения искусства, чтобы получить... право на оговорку: обратная перспектива в древнерусской живописи появлялась не только потому, что «так видели», были и другие соображения — иерархические, композиционные, стремление к большей информативности... Обстоятельность поражает: даже оговорки сопровождаются подробной аргументацией, обращением ко множеству примеров. И все ему мало, мало!.. Пилит и пилит сверчок внутреннего беспокойства. Чего-то исследователю не хватает. Картина не завершена... Недостает восточных красок! Его влечет к средневековьм художникам Индии, Ирана. Хочется нарушить общие для эпохи закономерности. Важны и отличия, тонкости, «светотени», без которых мысль о живописи, как и сама живопись, становится подозрительно монотонной...
В миниатюрах Индии и Ирана, убеждается он, персонажи живут своей жизнью, «не 


 чувствуя», что на них смотрят. Художник предо ставил им большое пространство — интерьер, участок двора, сада. А зрителя, наблюдающего издали, живописное повествование игнорирует. В византийской и древнерусской живописи иное. Там главные персонажи по мысли художника взаимодействуют со зрителем. Иконописец не считал свои произведения простой иллюстрацией к тексту Библии или церковным преданиям. «Не писали пособий для неграмотных», – Борис Викторович пользуется пришедшим в голову неожиданным сравнением. Художники той эпохи верили в ритуальное назначение искусства, наделяли свои шедевры внушающей силой, и эта особенность сказывалась на построении пространства, где персонажи максимально приближены к смотрящему.
чувствуя», что на них смотрят. Художник предо ставил им большое пространство — интерьер, участок двора, сада. А зрителя, наблюдающего издали, живописное повествование игнорирует. В византийской и древнерусской живописи иное. Там главные персонажи по мысли художника взаимодействуют со зрителем. Иконописец не считал свои произведения простой иллюстрацией к тексту Библии или церковным преданиям. «Не писали пособий для неграмотных», – Борис Викторович пользуется пришедшим в голову неожиданным сравнением. Художники той эпохи верили в ритуальное назначение искусства, наделяли свои шедевры внушающей силой, и эта особенность сказывалась на построении пространства, где персонажи максимально приближены к смотрящему.
...Я люблю тихие, обычно малолюдные залы древнерусского искусства — в Третьяковке, Русском музее, музее Андрея Рублева, приютившемся в стенах бывшего Андроникова монастыря... Много раз наблюдал, как смотрят иконы, и сам испытывал, откровенно скажу, сходное чувство: интересно, но быстро утомляешься. В других залах могу находиться дольше. У импрессионистов хочется присесть на скамеечке и смотреть, смотреть...
Наверное, всякий искренний человек, он не специалист, не знаток, не особенный какой-нибудь любитель, не коллекционер, что редко испытывает в общении с искусстве средневековья потрясение, какое случалось» ним на выставках гениальных итальянцев, фламандцев, испанцев, классиков нашей отечественной живописи. Волна увлечения иконописной живописью, появление картин и репродукций с них на стенах некоторых интеллигентных домов — дань моде. Я же говорю о сопереживании, духовной напряженности, ответной работе мысли и чувства. Вероятно, отсутствие «прямого контакта», на который древнерусские картины рассчитывались, создает психологическую преграду: «писалось для молящихся, а я атеист, меня не трогает»... Но разве не для молящихся создавалась архитектура соборов? Отчего же с замиранием души смотрю на отражающийся в воде храм Покрова на Нерли? Почему так часто влечет меня на волшебный остров Кижи? Отчего зима, проведенная однажды в Суздале, чувствую это, сделала меня другим? А творения живописи средних веков вызывают интерес, если так можно выразиться, скорее интеллектуальный, чем эмоциональный. Почему?
Видимо, не последнюю роль играет здесь наша необразованность. Мало хороших альбомов с популярными комментариями, доступных книг об Андрее Рублеве, Феофане Греке, Дионисии... Плохо знаем сюжеты, на которые древнерусские картины писались. Нечасто вспоминает о древнерусском искусстве телевидение. Торопятся вечно занятые музейные экскурсоводы, мы бежим за ними толпой, не успевая проникнуть в тайны искусства, на общение с «толпой» не рассчитанного, отдаленного не только столетиями, но и трудно постигаемыми тонкостями изображения.
Тем с большей благодарностью воспринимаю добрую, по сути своей просветительскую миссию академика Раушенбаха, хотя он вовсе не ставил перед собой популяризаторской цели. Какой же надо обладать жаждой познания, чтобы день за днем, год за годом, параллельно с основной своей деятельностью, взбираться на труднодоступную, покрытую патиной времени гору, откуда открывается полмира:
«Действительно, не только византийское, древнерусское, средневековое армянское и грузинское искусство, как и искусство другим стран, связанных с византийской культурой, обладают этой особенностью. Обратную перспективу можно обнаружить в средневековом искусстве Ирана, Индии, Китая, Японии, Кореи и ряда других стран совершенно иной куль туры». Поистине космический обзор!
-5-
О космосе помянуто не ради красной словца.
Академику Раушенбаху и в этой области довелось оставить заметный след. Он глубоко разработал проблемы управления ориентацией искусственных спутников и аппаратов дальних космических полетов. Читая подряд его книги, я подумал: «Ну до чего же «скучный» он человек, Борис Викторович! За что берется — заводит всегда одну и ту же мелодию: «Систематическое изложение вопросов, связанных... (с динамической устойчивостью самолета; пространственным построением в живописи; теорией вибрационного горения; управлением ориентации космических аппаратов — в данном случае), в настоящее время отсутствует. В то же время эти вопросы являются нередко основными...» Я подчеркнул слова, общие для преамбулы буквально всех его исследований. Ему не интересно, если «присутствует». Отсутствие, неизвестность, необходимость — вот что раскаляет азарт.
— Вы были знакомы с Королевым?
— Очень хорошо, еще с одиссеи планеров... В 1935 году Сергей Павлович создал двухместный планер «СК-9» и привез его в Крым, на коктебельский слет. Самый последний, где под водился итог развитию планеризма в СССР.
Там было очень много чрезвычайно интересных конструкций, но детище Сергея Павловича, я хорошо помню, не производило впечатления рекордной машины. Аэродинамическое качество было ниже, чем у других двухместных планеров. Большая нагрузка на крыло, вызванная повышенной прочностью, затрудняла парение.
А когда я через два года увидел тот же планер в Реактивном научно-исследовательском институте, РНИИ, где машину Королева переоборудовали для установки ракетного двигателя, странное впечатление, которое она произвела на крымском слете, совершенно исчезло. Вот откуда тяжесть крыла — ракетный двигатель он имел в виду!
— И летали?
— В начале 1937 года машину Королева Начали переделывать в одноместный ракетоплан, снабженный двигателем. А в 1940 году летчик В. П. Федоров совершил на этом планере полет с работающим ракетным двигателем. Это был первый в Союзе полет человека с исследованием реактивного двигателя. Все, что Королев делал, вплоть до открытия им космической эры, далеко опережало свое время. Мне хочется подчеркнуть смелость Сергея Павловича. Он принимал решения, на которые 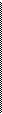


 отважился бы не каждый. А в войну, когда вместе с В. П. Глушко занимался жидкостными ракетными двигателями для авиации, сам летал на экспериментальных самолетах.
отважился бы не каждый. А в войну, когда вместе с В. П. Глушко занимался жидкостными ракетными двигателями для авиации, сам летал на экспериментальных самолетах.
Сергей Павлович, говорит Раушенбах, был человеком разнообразно одаренным. Любил художественную литературу. Иногда чуть ли не целыми главами цитировал наизусть прозу Льва Толстого.
— Вы слышали?
— Неоднократно!.. Конечно, он ничем не занимался, кроме своего дела, но скорее всего испытывал от этого известный дискомфорт. Сознательно сузил свою жизнь, и обстоятельства вынудили его ничем не заниматься, кроме работы. Вы же понимаете, какая у Королева была работа! Другие интересы он вынужден был отодвигать. В том числе и увлечение литературой. Не знаю, стал ли бы он сам писать при иных поворотах судьбы, но из него мог бы получиться высокообразованный литературовед, скажем, или мастер художественного слова, актер. Да, он мог бы стать прекрасным артистом. В нем был природный художественный талант. Это ощущалось. Он вынужденно обеднил свою жизнь и в какой-то мере от этого страдал. Отдал себя целиком науке, космосу. И в этом не только научный, но и гражданский, человеческий подвиг Сергея Павловича. Исторически
необходимое самопожертвование...
Откуда «есть пошел», как в старину жались, Раушенбах? Рос не в профессорской семье. Родители, по его определению, интеллигенты невысокого уровня». Отец был мастером на заводе в Ленинграде. В детстве Борис увлекался моделями, в юности — планерами, позже — самолетами, ракетами. Преподаватель школьного авиамодельного кружка, научивший мальчишку мастерить нехитрую штуку с крыльями и хвостом, может быть счастлив: не каждому удается раз и на всю жизнь запустить человека в полет!
...В эпоху Леонардо, рассуждает Раушенбах, один человек мог знать всю науку. А сейчас исчезло даже само понятие «математик». Есть геометры, алгебраисты, специалисты по функциональному анализу, топологии... В экспертном совете по механике и математике ВАКа, где мне приходилось заседать, часто не могут разобраться в диссертации, пока не привлекут соответствующего специалиста. А ведь там академики сидят, членкоры, профессора — цвет советской математики!
— Случается, общественные процессы, дойдя до какой-то крайности, поворачивают вспять. Не приведет ли чрезмерно узкая специализация к противоположной тенденции?
— Уже приводит! Люди становятся узкими специалистами, универсальность исчезает, возникла потребность в компенсации ее. И не случайно, наверное, академик Мигдал, физик, занимается скульптурой. Представители точных наук тянутся к гуманитарным знаниям. Нельзя судить обо всем, но можно глубоко знать, скажем, какой-то раздел математики и одновременно музыку Вивальди. Хобби лежит в области, далекой от профессиональных знаний. Это логично. Но иногда может перерастать в профессию. Когда я вторую книгу о живописи написал, ощутил: перехожу из любителей в иную 

 категорию. Ясно, что это не самодеятельная, работа. Сейчас, могу сказать, у меня две профессии. Многие искусствоведы занимаются пространственными построениями в живописи, для них это основное, но теперь и я в этой области разбираюсь, конечно, не хуже. Если бы почему-либо перестал заниматься механикой мог, скажем, читать лекции студентам художественных вузов, работать в Институте искусствознания.
категорию. Ясно, что это не самодеятельная, работа. Сейчас, могу сказать, у меня две профессии. Многие искусствоведы занимаются пространственными построениями в живописи, для них это основное, но теперь и я в этой области разбираюсь, конечно, не хуже. Если бы почему-либо перестал заниматься механикой мог, скажем, читать лекции студентам художественных вузов, работать в Институте искусствознания.
— Борис Викторович, книга, над которой я работаю, будет называться «Ищи себя, пока не встретишь». Это основная мысль, своего рода кредо. Скажите, подтверждает ли ваша личная судьба и судьбы известных вам деятелей науки мой тезис? В том смысле, что нужно искать себя всю жизнь?
— Мысль правильная. Множество людей занимается не своим делом. Но в моем случае не так. Я бы не стал, доведись начать жизнь заново, смолоду развиваться как искусствовед. Все-таки основная специальность принесла мне больше удовольствия. Нельзя сказать, что я всю жизнь делал «не то», а на склоне лет наконец понял, чем должен был бы на самом деле заниматься. Правда, сейчас искусство отнимает уже не меньше времени, чем другая деятельность. Но не жалею, что не занялся им юности... Нет, не жалею. Я сделал в основной
профессии очень интересные вещи.
— Стало быть, китайской стены между видами деятельности нет. Даже внешне далекими друг от друга, противоположными, казалось бы, вроде искусства и техники.
— Да, да, согласен.
— Вот и мой сын — инженер и музыкант – убеждает меня, что понятие гармонии относится не только к музыке. Она пронизывает всю деятельность человека, его жизнь, даже шире — историю, природу. Еще древние греки знали, по мнению Виктора, что гармония проявляется во всем сущем. Сама жизнь существует лишь до тех пор, пока поддерживается гармония. Дисгармония — взрыв, распад, касается ли это одного человека или экологической системы — независимо. Что вы скажете по поводу этих мыслей?
— Скажу, что ваш сын прав... Перегородки между занятиями людей оказались несовместимыми с человеческой сущностью. Личность сопротивляется урезанности, рвется наружу из тесных одежд. Специализация, похоже, дошла до крайности, пружина сжалась почти до упора. И началось, пока еще медленное, распрямление: границы профессий размываются. Не так давно мне, например, предложили опубликоваться в одной книге, которую намерен издать Совет по эстетике АН СССР. Там задумана глава об эстетике научного познания, гармонии и прочих вещах. Вот поглядите...
Порывшись в папке, Борис Викторович протягивает письмо. Это просьба к нему участвовать в коллективном труде «Эстетические проблемы духовного освоения природы». От Раушенбаха ждут статью, связанную с познанием и живописью...
– Сборник строится по принципу вторжения в смежные и отдаленные области,— говорит он. – Естествознание и эстетика, гармония. Как видите, глухих барьеров между различными отраслями нет... Третья моя книга о живописи называется «Общая теория перспективы». Половина — чистая математика, а половина общедоступные вещи. Иначе писать такую работу бессмысленно: надо дать возможность при желании разобраться и «физикам» и «лирикам». Математика у меня на уровне знаний современного инженера, а не профессионального геометра. Любой «технарь» поймет, если его интересует искусство. А для гуманитариев — первая часть с большим количеством иллюстраций.
Ему не раз приходилось встречаться с искусствоведами Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, интересующимися его работами, выступать перед специалистами. В Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина прочитал цикл лекций — пять или шесть подряд.
Много ли это ему самому дало? Если говорить не о геометрии пространства, а именно; приобщении к искусству живописи?
— Прежде я совсем его не понимал, теперь понемногу начинаю понимать, но еще слабо.
Слабо?! Достойный ответ самонадеянным.
Сколько людей вокруг без достаточных оснований судят обо всем с потрясающим апломбом. Две-три прочитанных статьи, случайно попавшаяся на глаза книга — и уже «знаток», эрудит, душа компании. Поверхностная информированность, достаточная, чтобы «быть в курсе», вытесняет систематическое изучение, познание. Как часто узкий специалист, вполне компетентный в своей области, обнаруживает невежество в проблемах культуры, нравственности, вкривь и вкось толкует события истории Отечества, но не читал Карамзина, Ключевского, Соловьева...
Трудно осваивать новую область. От многого приходится отказываться — от вечера в компании друзей, прогулки, «нормального» отпуска... Чем это можно компенсировать? Что служит оправданием для увлеченного человека?
— Удивительная радость, радость вечного поиска истины,— убеждает академик Б. В. Раушенбах.
Круги приближения к истине. ПРАКТИКИ

Если мыслители видят в разделении труда противоречивый процесс, добро и зло, то для практиков понятия «разносторонность», «гармоничность» звучат почта бесплодными абстракциями. «Сначала надо, чтобы крутились станки»,— говорят они, и в логике им не откажешь: при недостаточно развитой материальной базе, на рельсах «дефицитной экономики» не создашь условий для гармоничного развитии человека. «Вот создадим эффективное производство, тогда можно будет поговорить и о личности, стирании граней и прочих умных вещах».
В этом рассуждении не было бы никакого изъяна, если бы не существовало обратной зависимости. Но она существует! Тот, кому работать интересно, чья профессия соответствует способностям и позволяет развивать их дальше, кто избавлен от психологической усталости, вызванное монотонностью одних и тех же, бесконечно повторяющихся узких обязанностей, вносит неизмеримо больший интеллектуальный и физический вклад в достижение поставленных обществом целей. Если все эти «абстракции» отложить на «потом», отодвинется решение актуальных задач.
Разделение труда продолжается. Однако и противоположная тенденция, препятствующая распаду профессий на бесконечный ряд узкоспециализированных ее осколков, год от года становится заметнее. Встречный процесс нарастает. Он вызван объективным развитием научно-технического прогресса, эрой новых технологий, моральным старением знаний, требующими непрерывного обучения и переквалификации. Внутренне человек не сопротивляется такому повороту событий, не сожалеет о нем. Наоборот, даже не задумываясь о сути происходящего, он готов приветствовать свежий воздух разнообразия в своей деятельности.
«Имеете ли вы смежные профессии?» — социологи Пермского политехнического института задали этот вопрос 1114 работникам Соликамского целлюлозно-бумажного комбината. Да, одну — ответили 23,7 процента опрошенных. Две — еще столько же. Три и более — 18,5! Тех, кто сказал «нет», оказались в явном меньшинстве.
Что все это означает для конкретного коллектива? Скажем, бригады заготовительно-сварочного цеха Запорожского трансформаторного  завода имени В. И. Ленина? Создана она была в 1979 году на базе участка, где работало до пятидесяти специалистов разных профессий: газорезчики, резчики на гильотинных ножницах, обрубщики, сверловщики, токари, комплектовщицы, стропальщики, крановые машинисты и т.д. Производственные неувязки, взаимные претензии подтолкнули их к слиянию в одну бригаду гораздо меньшей численности. Петр Куляба, руководитель ее, владеет десятью из двенадцати имеющихся у них профессий. Половина людей могут свободно заменять друг друга, по две-три специальности у каждого...
завода имени В. И. Ленина? Создана она была в 1979 году на базе участка, где работало до пятидесяти специалистов разных профессий: газорезчики, резчики на гильотинных ножницах, обрубщики, сверловщики, токари, комплектовщицы, стропальщики, крановые машинисты и т.д. Производственные неувязки, взаимные претензии подтолкнули их к слиянию в одну бригаду гораздо меньшей численности. Петр Куляба, руководитель ее, владеет десятью из двенадцати имеющихся у них профессий. Половина людей могут свободно заменять друг друга, по две-три специальности у каждого...
«Чтобы не надоедало, я меняю им работу часто,— говорил мне Куляба,— сегодня ставлю слесарить, завтра на газорезку. Однообразие надоедает. Представьте себе, что вам надо варить 100 метров шва в смену каждый день: сегодня — сто, завтра — сто, послезавтра — сто, и так месяц, год, всю жизнь! Можно умереть от тоски. Отсюда лишние перекуры, прогулы. А теперь другое: сегодня поварил, завтра порезал, послезавтра пособирал. Разное! Гораздо интереснее. Появилась отдушина. И с точки зрения самоутверждения хорошо: я могу и то, и другое, в глубине души этим горжусь».
В Перми я был приглашен на «круглый стол» бригадиров моторостроительного завода, где подробно записал мнения, аналогичные тому, что услышал от запорожца. Хотелось убедиться в надежности тенденции, стойкости ее, а не случайности. В Сумах, Запорожье, Ленинграде, Перми, Смоленске, Пензе, Калуге, Орджоникидзе, Кургане — повсюду, где мне лично довелось беседовать с рабочими, принявшими бригадную форму организации труда, люди быстро овладевают несколькими смежными профессиями. Им так интереснее, выгоднее. Больше можно заработать, легче заменить отпускника, заболевшего; новички быстрее получают квалификацию.
Полезно производству, отвечает его интересам и потому охотно поощряется практиками. Нет сомнения, на уровне бригады тенденция «антиспециализации» приобретает общесоюзные масштабы. Но вот вопрос... Тот же Петр Куляба в прошлом имел несколько строительных профессий, после армии бригадирствовал на стройке, сам работал каменщиком, монтажником, сварщиком. Дело не забылось, человек он энергичный. Однако пожелай Куляба — ради все той же «отдушины» или дополнительного заработка — совмещать работу на заводе и на стройке, ему не разрешат. По мнению практиков, производству это не нужно. А что там нужно каждому «для души» — дело личное.
По этому пути, милому сердцу практиков, пошло и совместительство, несколько расширившееся после двухлетнего экспериментирования в 1984-1985 годах.
Я был на Всесоюзном семинаре, проведенном летом 1985 года в Челябинске. Там преобладал подход к совместительству с позиций трудовых ресурсов, явно недостаточный, узкий. Философские, социально-психологические, медицинские проблемы вообще не затрагивались. Громко звучащая «ресурсная» струна заглушила мотивы, связанные с проблемой самоутверждения, здоровья, гармоничного развития. Преследовалась сиюминутная выгода: отчасти компенсировать нехватку в цехах рабочих. Никто не предлагал использовать совместительство для решения перспективных проблем научно-технического прогресса и социально-экономических вопросов. И тем более с трибуны семинара никто не вспомнил о программной цели: стирания существенных различий между умственным и физическим трудом.
Узконаправленный, ресурсный подход, возможно, продиктован сегодняшней экономической ситуацией. Для практиков она ставит пределы. Но нам не заказан взгляд и в день завтрашний, в 2000-й год. Разве можно сбрасывать со счета, что совместительство нужно не только для штопания дыр в балансе трудовых ресурсов? Что оно, помимо всего прочего, делает жизнь человека разнообразнее, эмоционально богаче? Конечно, я не имею в виду, что одной из его составляющих всегда и непременно будет работа руками, как это было предусмотрено экспериментом. В принципе личность вправо сочетать любые виды общественно полезной деятельности, если позволяют время, способности и здоровье.
Однако у практиков свои заботы.
Начальник прессового цеха Уральского автомобильного завода в Миассе В. Е. Несчастный говорил мне: «Нам о философских материях некогда задумываться. План жмет, а людей нет. Совместители для чего нужны? Они нам делают шестую часть программы. Приходят в свой выходной не баклуши бить, им только заготовки
подавай».
Заинтересованность, понимаю, порождает желание работать производительнее, но все же обществу совместители нужны не только для этого.
На том же Уральском автомобильном заводе старший инженер вычислительного цеха Михаил Евгеньевич Метелев, начальник бюро нормирования Евгений Иванович Комплешов, заместитель начальника лаборатории Валентин Александрович Яковлев и другие специалисты, добровольно совмещающие умственный труд с физическим, говорили мне, что в работе на станках и прессах привлекает их не только дополнительный заработок, но и возможность побороться с гиподинамией, желание испытать волю, извлечь дополнительную информацию для основной деятельности, приобрести еще одну профессию и т. д.
Метелев сказал: «Я работаю один раз в неделю с удовольствием. Встряска, физическая нагрузка. Монотонность жизни прервалась, мне нравится переход из одного состояния в другое. Полезно со всех сторон, спорт не полностью снимает гиподинамию, физиологи давно твердят, а теперь я сам убедился».
Он хороший лыжник, ходил по сорок километров, когда стал работать физически, лишь несколько сократил дистанцию, говорит, что труд у станка лыжам не помеха. Основная деятельность у него — АСУП, подсистема управления внизу, на участке. И совместительство, он говорит, помогает лучше разбираться в том, что там происходит. Стал понимать подоплеку отношений в цехе. Не представлял себе, в кабинете сидя, на что можно рассчитывать с точки зрения достоверности первичных данных. А ЭВМ, хоть и «умная машина», как ему стало ясно, вранье тоже ест молча и с аппетитом...
Мы видим, что люди разное ищут в совместительстве. Один читатель, шахтер, написал 







 мне, что хотел бы раза два в неделю «подрабатывать» в своем городском зелентресте — сажать цветы, до которых большой любитель. Но это не разрешается. Забойщик? Пожалуйста, можешь еще в своей же шахте по субботам чинить технику. Но у него душа другого просит! «Перетерпит», это не обязательно, с позиций практиков.
мне, что хотел бы раза два в неделю «подрабатывать» в своем городском зелентресте — сажать цветы, до которых большой любитель. Но это не разрешается. Забойщик? Пожалуйста, можешь еще в своей же шахте по субботам чинить технику. Но у него душа другого просит! «Перетерпит», это не обязательно, с позиций практиков.
Я спрашивал заместителя председателя Госкомтруда СССР Бориса Николаевича Гаврилова: почему конструктор может по совместительству быть токарем, а токарь с дипломом инженера (таких у нас много) не вправе поработать день в бюро или лаборатории? Почему опытный конструктор, если пожелает стать совместителем, непременно должен идти к станку, а работать по выходным в другом КБ, рядом с домом, ему нельзя? Чем руководствовались, вычеркивая вообще все конструкторские, проектные и аналогичные им работы из перечня занятий, разрешенных для совместительства? Собеседник был доброжелателен, отвечал охотно, откровенно, но доводы его сводились к типичной для практиков позиции — видеть в проблеме труда лишь «интересы производства», причем весьма прагматически:
— Пошли по такому пути: если можно точно проверить количество и качество выполненной работы, например при сдельных нормах и расценках, совместительство поощряется, а там, где контроль затруднен или невозможен, запрещаем его.
Получается, что миллионы людей, занятых у нас инженерной работой в НИИ, проектных институтах, лабораториях, тех или иных бюро, делают что-то, совершенно неподдающееся учету и контролю? Безусловно, можно придумать надежные измерители. Но с утилитарно-практической точки зрения оказалось проще лишить огромный отряд технической интеллигенции возможности совмещать работу по схеме «головой плюс головой», а вот «головой плюс руками» — пожалуйста.
Культ узкой специализации приобретает порой удивительные формы. Как только не называли XX век — и атомным, и электронным, и космическим, но фантазия неистощима. Кандидат юридических наук Е. Харитонов пишет в «Известиях»: «...наш век — век высокого профессионализма». Под этим флагом он воюет не с кем-нибудь, а с умельцами, которые, не будучи сантехниками, электриками и малярами, берутся устранять недоделки в своих жилищах. Не логичнее ли в данном случае ополчиться на «высоких профессионалов», которые произвели весь этот великолепный брак?
Похоже, «век профессионализма» должен считать своей недоработкой появление таких фигур, как «рабочие-директора» Виктор Чернов, расточник из Калуги, или Юрий Б
Date: 2015-10-18; view: 386; Нарушение авторских прав