
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рафаэлева мадонна
|
|
Я смотрел на неё несколько раз, но видел её только однажды так, как мне было надобно. В первое моё посещение я даже не захотел подойти к ней: я увидел её издали, увидел, что перед нею торчала какая-то фигурка, с пудренной головой, что эта проклятая фигурка ещё держала в своей дерзкой руке кисть и беспощадно ругалась над великою душой Рафаэля, которая вся в этом чудесном творении. В другой раз испугал меня чичероне галереи (который за червонец показывает путешественникам картины и к которому я не рассудил прибегнуть): он стоял перед нею со своими слушателями и, как попугай, болтал вытверженный наизусть вздор. Наконец, однажды, только было я расположился дать волю глазам и душе, подошла ко мне одна моя знакомка и принялась мне нашёптывать на ухо, что она перед "Мадонною" видела Наполеона и что её дочери похожи на Рафаэлевых ангелов. Я решился придти в галерею как можно ранее, чтобы предупредить всех посетителей. Это удалось. Я сел на софу против картины и просидел целый час, смотря на неё. И такова сила той души, которая дышит и вечно будет дышать в этом божественном создании, что всё окружающее пропадает, как скоро посмотришь на неё со вниманием. Сказывают, что Рафаэль, натянув полотно для этой картины, долго не знал, что на нём будет: вдохновение не приходило. Однажды он заснул с мыслию о Мадонне, и, верно, какой-нибудь ангел разбудил его. Он вскочил: она здесь, закричал он, указав на полотно, и начертил первый рисунок. И в самом деле, это не картина, а видение: чем долее глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобою что-то неестественное происходит (особливо если смотришь так, что ни рамы, ни других картин не видишь). И это не обман воображения: оно не обольщено здесь ни живостию красок, ни блеском наружным. Здесь душа живописца без всяких хитростей искусства, но с удивительной простотою и лёгкостию передала холстине то чудо, которое во внутренности её совершилось. Я описываю её вам, как совершенно для вас неизвестную. Час, который провёл я перед этою "Мадонною", принадлежит к счастливым часам моей жизни, если счастием должно почитать наслаждение самим собою. Я был один; вокруг меня всё было тихо; сперва с некоторым усилием я вошёл в самого себя; потом ясно начал чувствовать, что душа распространяется; какое-то трогательное чувство величия в неё входило; неизобразимое было для неё изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. Гений чистой красоты был с нею:
Он лишь в чистые мгновенья
Бытия слетает к нам
И приносит откровенья
Благодатные сердцам.
Чтоб о небе сердце знало
В тёмной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он даёт взглянуть порой;
А когда нас покидает,
В дар любви, у нас в виду,
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.
Не понимаю, как могла ограниченная живопись произвести необъятное: пред глазами полотно, на нём лица, обведённые чертами, и всё стеснено в малом пространстве, и, несмотря на то, всё необъятно, всё неограниченно! И точно приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда: занавес раздёрнулся, и тайна неба открылась глазам человека. Всё происходит на небе: оно кажется пустым и как будто туманным, но это не пустота и не туман, а какой-то тихий, неестественный свет, полный ангелами, которых присутствие более чувствуешь, нежели замечаешь; можно сказать, что всё, и самый воздух, обращается в чистого ангела в присутствии этой небесной, мимоидущей Девы. И Рафаэль прекрасно подписал своё имя на картине, внизу её, с границы земли, один из двух ангелов устремил задумчивые глаза в высоту; важная, глубокая мысль царствует на младенческом лице — не таков ли был и Рафаэль в то время, когда он думал о своей Мадонне? Будь младенцем, будь ангелом на земле, чтобы иметь доступ к тайне небесной. И как мало средств нужно было живописцу, чтобы произвести нечто такое, чего нельзя истощить мыслью. Он писал не для глаз, всё обнимающих во мгновение и на мгновение, но для души, которая, чем более ищет, тем более находит. В Богоматери, идущей по небесам, не приметно никакого движения; но чем более смотришь на неё, тем более кажется, что она приближается. На лице её ничто не выражено, то есть на нём нет выражения понятного, имеющего определённое имя; но в нём находишь в каком-то таинственном соединении всё: спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земного, следовательно, мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной. В глазах её нет блистания (блестящий взор человека всегда есть признак чего-то необыкновенного, случайного, а для неё уже нет случая — всё совершилось); но в них есть какая-то глубокая, чудесная темнота; в них есть какой-то взор, никуда особенно не устремлённый, но как будто видящий необъятное. Она не поддерживает Младенца, но руки её смиренно и свободно служат ему престолом: и в самом деле, эта Богоматерь есть не что иное, как одушевлённый престол божий, чувствующий величие сидящего. И он, как царь земли и неба, сидит на этом престоле. И в его глазах есть тот же никуда не устремлённый взор; но эти глаза блистают тем вечным блеском, которого ничто ни произвести, ни изменить не может. Одна рука Младенца с могуществом Вседержителя оперлась на колено, другая как будто готова подняться и простереться над небом и землёю. Те, перед которыми совершается это видение, св. Сикст и мученица Варвара, стоят также на небесах: на земле этого не увидишь. Старик не в восторге: он полон обожания мирного и счастливого, как святость; святая Варвара очаровательна своею красотою: великость того явления, которого она свидетель, дала и её стану какое-то выразительное величие; но красота лица её человеческая, именно потому, что на нём уже есть выражение понятное; она в глубоком размышлении; она глядит на одного из ангелов, с которым как будто делится таинством мысли. И в этом нахожу я главную красоту Рафаэлевой картины (если слово картина здесь у места). Когда бы живописец представил обыкновенного человека зрителем того, что на картине его видят одни ангелы и святые, он или дал бы лицу его выражение изумлённого восторга (ибо восторг есть чувство здешнее: оно на минуту, быстро и неожиданно отрывает нас от земного), или представил бы его падшего на землю с признанием своего бессилия и ничтожества. Но состояние души, уже покинувшей землю и достойной неба, есть глубокое, постоянное чувство, возвышенное и просвещённое мыслию, постигнувшею тайны неба, безмолвное, неизъяснимое счастие, которое всё заключается в двух словах: чувствую и знаю! И эта-то блаженствующая мысль царствует на всех лицах Рафаэлевой картины (кроме, разумеется, лица Спасителева и Мадонны): все в размышлении, и святые и ангелы. Рафаэль как будто хотел изобразить для глаз верховное значение души человеческой. Один только предмет напоминает в картине его о земле — это Сикстова тиара, покинутая на границе здешнего света. Вот то, что думал я в те счастливые минуты, которые провёл перед "Мадонною" Рафаэля. Какую душу надлежало иметь, чтобы произвести подобное! Один раз душе человеческой было подобное откровение; дважды случиться оно не может.
Вряд ли что можно добавить на таком уровне к словам поэта. Но многие читатели, видевшие "Мадонну" лишь в репродукциях и, возможно, мало что испытавшие, не потому, что там нет "энергетики" автора, а вследствие собственной ограниченности и духонепроницаемости, могут под воздействием этого сказания вызвать на экране мысленного взора вдохновенную поступь Божьей матери на небесах, одновременно застывшую и стремительную, объятую жаждой мира незыблемого и приносящую во имя его в жертву своего сына драгоценного. Земные законы и критерии с трудом могут позволить ощутить всю полноту смысла Рафаэлева детища, но с его помощью каждый человек может в меру своей чувствительности и возвышенной устремлённости войти в состояние, хотя бы чуть-чуть подобное состоянию поэта, тем самым оторваться хотя бы на время от "заедающего" быта, приобщиться к заботам мира горнего и подключиться тем самым к могущественной силе Божественного Разума, способной решить все наши проблемы, в том числе и здоровья. И не нужны будут никакие специальные методики и технологии оздоровления. Их возможности сами по себе ничтожны по сравнению с возможностями Духа Святаго. Я заявляю это не только из теоретических предпосылок, хотя и их было бы достаточно для убедительности, но и из собственного опыта и из опыта некоторых, к сожалению, немногих известных мне людей, вырвавшихся из плена телесного сознания. На таком подключении человека к эволюционной силе строятся программы моих семинаров, один из вариантов которых представлен в Приложении VI.
Мне не хочется заканчивать разговор о смысле искусства, и поэтому я перед временным его прерыванием позволю себе остановиться ещё на двух шедеврах. У Айвазовского есть редко экспонируемая картина "От штиля к урагану", выражающая философию автора, весьма пессимистичную. Картина условно состоит из трёх частей, олицетворяющих периоды жизни человека. В первой части слева изображён юноша, с надеждой и мечтами солнечным утром вступающий в жизнь. В центре картины он уже в зрелом возрасте в волнующемся клокочущем океане с переменным успехом борется с набегающими волнами повседневной жизни со всеми её превратностями и парадоксами. И, наконец, третья часть справа показывает финал: жадно цепляющийся за обломки в штормящем океане безуспешно пытается выбраться на спасительный берег. Можно согласиться с автором, если под этим берегом понимать Великий Переход в Горний мир со всеми наработками земной жизни, а не как смерть, большинством понимаемую как небытие. Но почему тогда от картины веет тоской и безысходностью, навеваемыми отчаянным положением старика и ужасом в его глазах. Трудно согласиться с философией великого мариниста, от которой веет чад и угар материализма. Искусство должно избавлять человека от всяческих предрассудков и роковых заблуждений по главному вопросу Бытия — вопросу жизни и смерти. Этому служат иногда даже не столь глубокие и проницательные художники, интуитивно следующие правде жизни. Об этом свидетельствует картина И. Е. Репина "Самосожжение Гоголя", хранящаяся в запасниках Третьяковки. О ней весьма убедительно повествует другой вдохновенный поэт-мыслитель Д. Андреев в своей "Розе мира":
"... ни один человек, о трагедии Гоголя высказавший своё суждение, даже такой глубокий аналитик, как Мережковский, не был так проницателен и глубок, как недалёкий и обычно совсем не глубокий Репин.
Когда будучи свободным от профессиональных предубеждений, вглядываешься в эту картину, ощущаешь себя невольно втягиваемым в душевную пропасть сквозь последовательные психофизические слои.
Сначала видишь больного, полупомешанного, может быть, даже и совсем помешанного, изнемогающего в борьбе с каким-то, пожалуй, галлюцинаторным видением. При этом испытываешь смесь соболезнования и того бессознательного, невольного отталкивания, какое свойственно "психически нормальным" людям при соприкосновении с душевнобольным. Но вот этот слой спадает, как шелуха; внезапно различаешь искажённое предсмертным томлением лицо человеческого существа, принёсшего и приносящего в жертву кому-то всё своё драгоценнейшее, всё, чем жил: заветнейшие помыслы, любимейшие творения, сокровеннейшие мечты — весь смысл жизни. В потухающих глазах, в искривлённых устах — ужас и отчаяние подлинного самосожжения. Ужас передаётся зрителю, смешивается с жалостью, и кажется, что такого накала чувств не сможет выдержать сердце. И тогда делается виден третий слой — не знаю, впрочем, последний ли. Те же самые потухающие глаза, те же губы, сведённые то ли судорогой, то ли дикою, отчаянной улыбкой, начинают лучиться детскою, чистой, непоколебимой верой и той любовью, с какой припадает рыдающий ребёнок к коленям матери. "Я всё Тебе отдал, — прими меня, любимый Господи! Утешь, обойми!" — говорят очи умирающего.
И чудо художника в том, что уже в самой мольбе этих глаз заключён ответ, точно видят они уже Великую Заступницу, обнимающую и принимающую эту исстрадавшуюся душу в лоно любви".
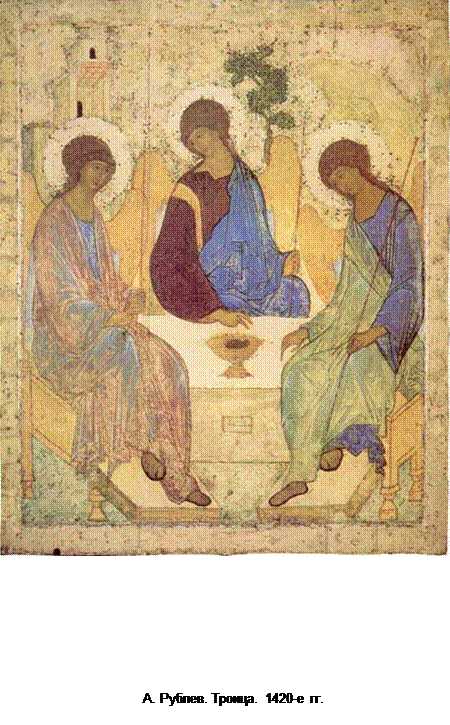 |

|
Date: 2015-06-06; view: 1040; Нарушение авторских прав