
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тореадоры, смелее в БОЙ.
Химик — композитор, инженер — верхолаз, токарь — журналист, директор — скульптор:
жизнь замечательных и жизнь обыкновенных людей
-1-
 В начале 1933 года на стол Максима Горького, который жил тогда в Сорренто, легли первые рукописи основанной им серии «Жизнь замечательных людей». Взяв каталог «40 лет ЖЗЛ», вышедший в 1974 году, я насчитал в нем 557 книг — от «Гейне» (1933) до «Вашингтона» (1973).
В начале 1933 года на стол Максима Горького, который жил тогда в Сорренто, легли первые рукописи основанной им серии «Жизнь замечательных людей». Взяв каталог «40 лет ЖЗЛ», вышедший в 1974 году, я насчитал в нем 557 книг — от «Гейне» (1933) до «Вашингтона» (1973).
Пятьсот пятьдесят семь гениев... великих... замечательных... выдающихся... Им были свойственны разносторонние таланты. Галилей — физик, механик, астроном, медик, поэт, художник, музыкант. Писатель и дипломат А. С. Грибоедов окончил словесный, юридический и физико-математический факультеты университета, был музыкантом. Герой Отечественной войны 1812 года полководец М. И. Кутузов преподавал математику. Русский механик А. К. Нартов, личный токарь Петра I, был скульптором и автором исторической книги...
В судьбе замечательных людей талант и труд следуют рука об руку. Вера в себя становится жизненной доминантой. Творчество господствует над пассивным восприятием действительности. Энергия духа поддерживает физическое здоровье. Нравственное чувство порождает гражданскую ответственность перед обществом.
Только одаренность — от природы, да и то ее можно развить в себе или убить. А прочее — результат внутренней работы, самодисциплины, самовоспитания.
Но равняться на гениев — немного желающих. Отпугивает грандиозность их таланта, не соизмеримость с обычными мерками. Человек прикинет мысленно свои возможности взобраться на близлежащий холм, но подъем на Эверест оставляет незаурядным спортсменам. Гораздо охотнее последовали бы мы за гипотетической серией «Жизнь обыкновенных людей», а таковой, увы, не существует...
Не существует? Отчего же?
Оглянитесь, посмотрите на своих друзей, товарищей по цеху, лаборатории, редакции — разве нет среди них достойных подражания личностей? Обыкновенные, они вместе с тем и необычны, их жизнь увлекательна, мир широк и многообразен. Мы иногда считаем их чудаками, не от мира сего, порой даже в чем-то на всякий
случай подозреваем, мол, нет ли чего предосудительного в их непохожести? Нет бы присмотреться, задуматься, сделать выводы для собственной судьбы. Понять, что жизнь замечательных и жизнь обыкновенных не столь уж разнятся друг от друга. И кому боязно брать образец творческой энергии, скажем, недюжинный талант Александра Порфирьевича Бородина, «человека из ЖЗЛ», химика и композитора, мог бы смело примериться к биографиям наших современников — токаря, инженера, директора, о которых я расскажу. Сопоставим их
с выдающейся личностью, сравним и посмотрим — есть ли общие черты, которым можно с доверием следовать?
-2-
Случайное, начиная с самой фамилии. Отец его — князь Гедеанов, мать — мещанка Антонова. Фиктивно записали сыном крепостного слуги. Рос в доме матери, не имевшей образования. Могли к сапожнику в обучение отдать, так отец предлагал. Но средства позволили пригласить гувернантку-француженку, потом других учителей. Отсюда три языка, которые знал Бородин с детства.
Неподалеку, на расстоянии пешей прогулки, Семеновский плац с духовым оркестром. Отнесем и это к везению: могли жить в другом конце Петербурга. Часами слушал, стоя у эстрады,— зов таланта, пока еще неосознанного. Но для меня вот что здесь существенно: полковые музыканты не прогоняли мальчишку, разрешили брать в руки инструменты, рассматривать, пробовать, как звучит. Урок нам, взрослым, и по сей день. Обычно первая реакция: отойди, не прикасайся! А тут — военные... В праздники нередко оркестры играют и сейчас на площадях, но чтобы в перерыв там дети в трубы дудели — нет, такого не видел. Солдат-флейтист стал обучать Сашу по полтиннику за урок. В девять лет мальчик сочинил пьеску «Полька Элен».
Не случайно: страсть к обучению, книгам - всепоглощающее упорство. Характер умножает способности! Но опять проявилась мудрость взрослых. Позволили мальчишке квартиру превратить в лабораторию. На подоконниках, столах, под стульями — повсюду разбросал он свои банки с растворами, порошками, колбы, реторты, пробирки. «По временам весь дом наполнялся едким удушливым запахом, дымом: это Алек 
 сандр производил свои химические опыты» (Т. Попова, «Бородин») (Здесь и далее я ссылаюсь на книгу издательсиИ «Музыка», 1972 г.).
сандр производил свои химические опыты» (Т. Попова, «Бородин») (Здесь и далее я ссылаюсь на книгу издательсиИ «Музыка», 1972 г.).
В современных квартирах, где трясемся над паркетом и полированными поверхностями, переобуваем гостей в тапочки, двенадцатилетнему химику не разгуляться. Полы и мебель у матери Саши Бородина, наверное, были не хуже, но над вещами мы стали, к сожалению, трястись больше, чем над будущим детей. Не взяла ли «пожарная психология» в прямом и переносном смысле верх над педагогикой?
Учитель музыки появился в тринадцать лет... Нас не удивить, в любом райцентре есть классы фортепьяно и скрипки, да и в селе. Детские Сашины сочинения? И сейчас сколько угодно! Но дальше останавливаюсь озадаченный. Думаю: могло ли у нас такое произойти? Чтобы пьесы юного любителя напечатали? Кто сейчас опубликует и где?
Теперь оставим на время весьма одаренного мальчика девятнадцатого века с его увлечением химией и музыкой, чтобы познакомиться с детством современников, людей обыкновенных.
Борис Федорович Данилов, токарь-лекальщик, в тринадцать лет впервые попал в цех – привел двоюродный брат, одновременно пристрастивший Бориса к лыжам, конькам, гребле. Отсюда тянутся корни упорства, выносливости которые позже скажутся в характере. Стадион сейчас любому мальчишке доступен, но как бы мы, родители, отнеслись к отчаянной проделке Бориса, отправившегося с двумя сверстниками-сорванцами в трехнедельное плавание на парусной лодке по Финскому заливу?! Мы бы, наверное, с ума сошли от страха: ребенок в море! Втайне от взрослых готовили снаряжение, обеспечили себя необходимым, не дрогнули, не повернули домой. Высаживались на берег в Петергофе, Ораниенбауме, Сестрорецке, Лисьем Носу. Ловили рыбу, готовили обеды на костре. Конечно, родители задали им взбучку, но на следующий год уже сами разрешили морское бродяжничество, даже помогли снарядить экспедицию. Это уже мудрость, как и та, что проявила мать Саши Бородина по отношению к его химическим увлечениям.
После девятого класса Борис пошел в училище инструментальщиков, через три года получил аттестат за десятилетку и специальность «токаря пятого разряда» по тогдашней восьмиразрядной сетке. Уверенный старт: к восемнадцати годам — самостоятельный заработок, довольно высокая квалификация.
Владимир Масленников намного моложе Данилова. На свет появился в семье военного. Это сразу предопределило кочевую его долю. Борис рос с отчимом, Владимира воспитывала тетя — родная мать умерла, когда ему было семь лет. Школу кончал в Грозном, но прежде пришлось скитаться по белу свету, даже в Австрии провел два с половиной года — отец служил в стоящих там наших войсках.
Случай мог его судьбой распорядиться и произвольно, но нас интересует другое: с каких пор и каким именно образом Владимир сам стал своей биографией управлять?
Хотел учиться рисовать, а его, моды ради,  отдали в музыкальную школу, к чему совершенно не было склонности. Воля взрослых пошла поперек природы, годы «музыкалки» Масленников считает выброшенными зря, но художественное дарование через все препоны пробилось, как мы увидим позже, вылилось в страстное увлечение фотографией.
отдали в музыкальную школу, к чему совершенно не было склонности. Воля взрослых пошла поперек природы, годы «музыкалки» Масленников считает выброшенными зря, но художественное дарование через все препоны пробилось, как мы увидим позже, вылилось в страстное увлечение фотографией.
Десятиклассником мечтал о космонавтике, авиационном институте, поступал в МАИ, не прошел по конкурсу, через год вторично подал документы — теперь уже в авиационный технологический институт (МАТИ) — и опять не попал. В упорстве он Данилову, видимо, ровня: пошел рабочим на авиаремонтную базу, а потом — в третий раз! – в МАТИ. В конце концов стал инженером, специалистом по цветному литью.
Когда приехал в институт поступать, Москва к празднику наряжалась: ждали гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Владимир с приятелем гуляли по столице, было им по девятнадцать лет, и руки чесались — хотелось сделать что-нибудь незаурядное. А что придумаешь? «Давай на Казанском вокзале шпиль покрасим. Смотри, какой облезлый!» Молодые авантюристы пошли предлагать свои услуги. И уговорили начальство, покрасили! Данилов ринулся в море, Масленникова потянула высота. Отчаянные парни, ничего не скажешь.
Студентом он полез красить шпиль высотного дома на Котельнической набережной. Я видел фотографию: Масленников сидит на верхотуре, на звездочке. Снизу ее и не приметишь, хотя шесть метров в диаметре. Сидит, наслаждаясь тем, что вознесся над всей Москвой, выше нет ничего. От земли — сто пять метров. Под снимком подпись: «Лестница на небо, май 1958 года». Начало его «пути наверх», откуда, годы спустя, сможет он бросить взгляд на собственные возможности.
В отличие от Данилова и Масленникова истоки судьбы Евгения Гончарова обнаруживаются в глубине истории, еще до отмены крепостного права. Предка его, молодого гончара, воронежская помещица обменяла на охотничью собаку. Заполучив мастера, землевладелец, хозяин Даниловки, где теперь райцентр Волгоградской области, велел ему наладить для имения посудное производство. Тот отправился вверх по ручью Рысь, впадающему в реку Медведь, и верстах в двадцати пяти от Даниловки отыскал отличную глину. С дозволения барина построился, женился, родилось у него восемь сыновей. Хутор до сих пор называется Гончары, там развит гончарный промысел и живут почти сплошь Гончаровы, как Евгений Михайлович утверждает, крепко похожие лицом на его отца.
Однако по материнской линии все были кузнецами — деды, прадеды. В конце концов и отец переквалифицировался в кузнеца. С пятнадцати лет рядом с ним работал и Женя. Когда Гончаров, уже директором совхоза, впервые пришел в кузницу и стал к горну, мастера ухмылялись: начальство балуется! А он за два прогрева сделал отличный инструмент.
На зоотехнический в Тимирязевку, где конкурс был двадцать человек на место, приехал он поступать в бязевых штанах, в солдатских ботинках не по размеру, с деревянным самодельным чемоданом. С Казанского вокзала 
 (шпиль которого восемь лет спустя красил Масленников) на трамвае отправился в академию. В окно глядел с тоской. Все нарядные, а он в перешитой солдатской шинели.
(шпиль которого восемь лет спустя красил Масленников) на трамвае отправился в академию. В окно глядел с тоской. Все нарядные, а он в перешитой солдатской шинели.
Да ничего, поступил. Начал учиться и первом же курсе совсем «дошел»: легочный процесс тлел в нем еще с мальчишества, когда подростком работал молотобойцем в горячем цехе. И пропал бы, наверное, если бы не Борис Константинович Гинц. Профессор — заведующий одной из кафедр зоофака, архитектор-любитель, построивший корпус академии, в котором теперь музей коневодства,— пригласил студента к себе домой: прослышал, что парень погибает.
Расспросил, крикнул куда-то: «Оля!» Выкатилась кругленькая старушка, супруга, послушала Гончарова без трубки, приложив ухо к груди: «Боря, у него целый оркестр!» Профессор сказал: записывай. Во-первых, попросишь родных, чтобы из деревни прислали сала, растопишь и будешь пить по стакану ежедневно, во-вторых, принимай вот эти таблетки и, в-третьих, с завтрашнего дня — бегать! Тут же написал записку спортврачу академии: «Гонять без пощады».
Спортивный доктор, прочитав записку, спросил: «Что это у тебя, Женя?» И стал разматывать теплый материнский платок. «Сними! – приказал.— Беги еще круг!» Не было сил, подкашивались ноги. Опустился на траву. Доктор поставил, подтолкнул в плечо: «Беги! Будешь бегать ежедневно после учебы, а зимой —коньки. И ежедневно обтираться холодной водой!»
Вы можете оценить моего героя: первокурсник через год был уже в сборной академии по конькам и дорожному велосипеду, а ближе к выпуску стал чемпионом Тимирязевки, Московской области и, наконец, всех вузов страны! Ему торжественно вручили восьмискоростной красный гоночный велосипед, который, правда, тут же, где вручали, был похищен. Посочувствовали, дали взамен фотоаппарат, он его с досады брякнул о камень — вдребезги! Такой характер.
Сейчас Гончаров спорт оставил, но туберкулез забыт, купается круглый год в ледяной воде.
-3-
Студентом-медиком Бородин вступил в общество любителей камерной музыки, писал фуги, сонаты для флейты и виолончели. Его учитель, профессор Н. Н. Зинин, «дедушка русской химии», как его позже назвали, не был в восторге от музыкальных увлечений молодого человека, которого прочил в преемники. «Вы же видели, с каким недоверием относятся все к любителю музыки, имеющему иную профессию...— сетует Бородин в одном из писем.— Притом же № будет стыдно перед профессором Зининым, моим руководителем. Как-то он уже заявил при всех, чтобы я поменьше занимался романсами и не гнался за двумя зайцами». Блестяще завершена академия, но очень скоро он разочаровывается в карьере военного врача. В нашем понимании, у молодого человека нет никакой профессии. Нравится химия, но это – любительство, музыка – тем более. Дело, которому обучен профессионально, - медицина – отброшено со всей решительностью. Не требует ли такой поступок характера, смелости и веры в себя? И не сказали бы у нас сурово: «легкомыслие»?
Профессор Зинин советует писать диссертацию по химии. И вот через три года после ухода из академии Бородин — доктор наук, направляется на несколько лет за границу стажировки. Германия, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Швейцария, работа в лучших лабораториях Европы, общение и дружба там с Менделеевым, Сеченовым, Боткиным, увлечение Шопеном, Шуманом и Листом, ошеломленность музыкой Вагнера, еще неизвестного России, встреча в Гейдельберге с талантливой русской пианисткой Е. С. Протопоповой, сыгравшей значительную роль в музыкальной и личной его судьбе,—может ли молодой человек, отказавшийся от означенной в дипломе профессии, в наше время получить такой импульс своим талантам? Ни докторской диссертации через три года, ни длительной стажировки за рубежом в этом случае ему не видать, не о чем даже говорить. Обмен учеными-практикантами у нас производится со многими университетами мира, едут и в Европу, и за океан, но по прямой профессии. Я же хочу подчеркнуть, что Бородин смог развивать любительские увлечения (на самом-то деле могучие свои таланты — призвание!) одновременно с отказом от узкой, дипломом санкционированной специальности.
Итак, бывший военный врач Бородин, адъюнкт-профессор при кафедре химии Военно-медицинской академии в Петербурге. Успешные исследования приносят ему авторитет в европейских ученых кругах. Пройдет немного времени, и репутация выдающегося химика прочно закрепится за ним среди соотечественников и зарубежных коллег. Одно любительство стало профессией. А музыка? Пока нет. Но вмешивается везение. Впрочем, везение ли? Таланты тянутся друг к другу, в этой солидарности их духоподъемная сила.
В доме С. П. Боткина он знакомится с пианистом и композитором М. Л. Балакиревым. Обратим внимание на степень человеческой и профессиональной доброты. Может ли доброта быть «профессиональной»? Я не вполне уверен, но затрудняюсь определить иначе ситуацию, когда один специалист не глушит, а, наоборот, пестует и лелеет дарование другого. Балакирев разглядел выдающихся музыкантов в семнадцатилетнем подпрапорщике Мусоргском, кадете I Римском-Корсакове. И когда стесняющийся химик осмелился показать ему свои композиторские опыты, не сказал, снисходительно похлопывая по плечу, как усталый многоопытный метр: да, что-то есть, дарование просматривается, но сыро, сыро, надо много работать; Глинку слушайте почаще, консерватория вам нужна, Дорогой друг. Балакирев решительно заявил: «Композиция — ваше настоящее дело, ваше призвание. Неужели до меня никто и никогда вам этого не говорил?»
О балакиревском кружке, «Могучей кучке», каждому из нас известно со школьных лет. Я лишь подчеркну «профессиональный состав» композиторов: подпрапорщик, военный инженер, морской офицер, химик-исследователь. Специалистами, в нашем понимании, можно назвать, вероятно, только самого Балакирева и критика Стасова. А Мусоргский, Бородин, Рим-Корсаков, Кюи? В современном представ – «самодеятельность», хотя речь идет о классиках отечественной музыкальной культуры. Вот тот случай, когда признание определятся дарованием. Теперь же талантливому человеку нередко трудно «пробиться», не и диплома в кармане, без принадлежности к творческому союзу. Очевидно, что такая бюрократизация искусству не на пользу. И тут, думаю, стоит внимательнее присмотреться к опыту прошлого. В течение нескольких лет Балакирев лично руководил композиторскими занятиями химика Бородина — замечательная черта русской прогрессивной интеллигенции, привечавшей новые молодые таланты, достойна изучения, следования. Каждый случай возрождения столь прекрасной традиции заслуживает всемерного одобрения.
-4-
Однажды Евгений Михайлович Гончаров, директор подмосковного животноводческого совхоза имени 60-летия СССР, решил вырубить в мраморе бюст матери. Гипсовый ее скульптурный портрет, отлитый им в бронзе, стоит на могиле, но не давала покоя мечта высечь в камне.
И вот едет он по Москве и видит: лежит куча мрамора. Попросил шофера, тормозни-ка. Стал вокруг прохаживаться, расспрашивать, откуда мрамор? Дом, может, облицовывали? Домище огромный, никто ничего не знает. Смотрит: дверь необычно высокая, даже удивился - такой прежде нигде не примечал, толкнул ее тихонечко, подалась, просунул голову: ба! Копия скульптуры Родена, знакомой ему но альбомам.
Нет, не сумею пересказать, лучше предоставлю слово самому Гончарову: «Вдруг выходит в кепочке, клетчатой рубашке коренастый мужик средних лет, спрашивает, что надо. Видать, у скульптора работник. Да вот, говорю, хочу кусок мрамора украсть, но поднять не можем, третий требуется — не подсобите? Шучу, а сам думаю: ох, турнет он сейчас нас! Мужик спрашивает: как это — украсть? Зачем? Объясняю: товарищ мой хочет поучиться бюст рубить. Просверлил глазами: «Товарищ, говоришь?» Я мастерскую напросился осмотреть. Он, помявшись, разрешил. Осмелел, спрашиваю: «А бывают книжки, где объясняют, как из мрамора рубить?» Ничего не ответил, присел на кресло старинное у телефона, стал названивать. Там, видать, переспросили, кто говорит, он рассердился: «Кто, кто! Не узнаете? Цигаль говорит!» Тут у меня ноги подкосились: академик Цигаль, знаменитый скульптор! Автор мемориала в Новороссийске. Я уже начитанный был, имена знал. Сам Владимир Ефимович! Вот тебе и «мужичок»... Думаю: мотай-ка быстро, Гончаров, отсюда, и шоферу: давай по-тихому к дверям и заводи. Мы уже за дверью, вдруг он кричит: «А ну стоите!» Я ему: «Спасибо, извините, нам пора». «Нет,— говорит,— вот телефон, где вам дадут отпечатанные на машинке странички из нужной книги, а теперь признавайся, кто такой? Наврал про друга? Сам хочешь попробовать?»
Месяцев через шесть, под Новый год, Цигаль позвонил, попросил разрешения приехать в Вороново полепить бюсты животноводов для выставки к юбилею Академии художеств. А приехав, сразу к хозяину: как работалось, что вырубил?
31 декабря пришло, дело к вечеру. Жены (Цигаль с супругой приехал) стол приготовили, а директор с академиком закрылись на веранде, оба перемазаны с ног до головы. Гончаров смотрит на руки скульптора: быстро работает! Смотрит и схватывает все на лету. Цигаль ему: «Лепи, директор, старайся, получается у тебя». Куранты полночь бьют, уже по телевизору всех поздравляют, жены из-за двери кричат: «Быстрее, быстрее!» Едва не прозевали смену года...
Взял Гончаров у своего гостя инструмент, которым мрамор рубят, пошел в совхозную кузню и сам отковал себе подобный. Через несколько лет была у него первая персональная выставка скульптурных работ, живописи, керамики. По рекомендации академика Цигаля и других известных скульпторов приняли директора совхоза в члены Союза художников СССР.
Как же все это случилось, если задатки художественного таланта (в школе оформлял стенгазету) к пятнадцати годам, казалось были им утеряны?
Не было бы счастья, да несчастье помогло - верная поговорка! Как-то вечером вызвали руководителей хозяйств к начальству, предупредили: приближается ящур! Евгений Гончаров, тогда молодой главный зоотехник «Зари коммунизма», сразу же после совещания в ночь отправился объезжать фермы и на трех обнаружил ящур. Чуть свет — к директору с докладом. Тот был человеком крутым, своевольным, пригласил парторга, немедленно созвали партбюро и постановили: главного зоотехника исключить из партии и снять с работы. Райком утвердил. Позже исключение отменили. Еще позже он был избран делегатом съезда партии. Но тогда, вернувшись с бюро домой, упал, горлом хлынула кровь. Несколько месяцев провалялся в больнице — прободение язвы, потом после операции еще томился почти два месяца, не мог работать.
Книги не отвлекали от тяжелых мыслей. Взял у сына-первоклассника букварь, детские краски, стал срисовывать картинки. Получается! Поставил на столе натюрморты — один, другой, третий, потом стал рисовать все, что видел в окне: деревья, птиц, бредущих по улице коров... И что-то произошло с ним, какой-то толчок изнутри, нетерпение, зуд в руках – еще, еще!
Никаких правил не знал, не учился нигде. От говорливого старичка, стоявшего сзади него в очереди у книжного прилавка, услышал, что на Кузнецком мосту принимают подписку на «Школу изобразительного искусства», уже третий том выдают. Где еще повезет потомственному кузнецу, если не на Кузнецком!
Вернулся домой счастливый, сразу же погрузился в книги. А там кладезь премудрости: как рисовать, чеканить, резать по дереву, лепить. И начал пробовать себя во всем, не отступал, злость, рассказывает, брала до дрожи! Неужто не смогу? Иногда месяцами возился, пока не получалось. И тут пришел новый том: «Скульптура».
«Какие же они люди, скульпторы? Боги? Нет, мне не потянуть... А потом взял у сынишки пластилин, была не была, решил: вылеплю его. Посадил: позируй! Тот в слезы: «Не хочу позировать». Ладно, дождался, когда он уснет, на цыпочках иду к кроватке с пластилином, губы пытаюсь его лепить, нос, рот... Мать приехала погостить, я и ее стал лепить, прошу: «Мама, мама, не спи, не закрывай глаза, еще пять минуточек!..»


 Директор и зоотехник, днем мотается он по фермам, полям. А вечера, ночи, отпуск отдает искусству. Столь далекие друг от друга увлечения разрывают его на части. У обыкновенных людей это происходит, как и у людей великих. Александр Бородин испытывал подобные муки.
Директор и зоотехник, днем мотается он по фермам, полям. А вечера, ночи, отпуск отдает искусству. Столь далекие друг от друга увлечения разрывают его на части. У обыкновенных людей это происходит, как и у людей великих. Александр Бородин испытывал подобные муки.
-5-
«...Дни, недели, месяцы, зимы проходят при условиях, не позволяющих и думать о серьезном занятии музыкою... — с грустью пишет Бородин друзьям.— Не то, что не выберется часа два досужего времени в день,— нет, не выберется нравственного досуга; нет возможности отмахнуться от стаи ежедневных забот и мыслей, не имеющих ничего общего с искусством… Некогда одуматься, перестроить себя на музыкальный лад... Для такого настроения у меня имеется в распоряжении только часть лета».
«Нужно заметить, что я вообще композитор, ищущий неизвестности. Мне как-то совестно признаться в моей композиторской деятельности. Оно и понятно. У других она — прямое дело, обязанность, цель жизни, у меня — отдых, потеха, блажь, отвлекающие меня от прямого моего настоящего дела: профессуры, науки. Мне дороги интересы академии. Вот почему я хотя, с одной стороны, желаю довести оперу до конца, но, с другой — боюсь слишком увлекаться ею, чтобы это не отразилось вредно на моей другой деятельности».
В Веймаре его принимает Ференц Лист, недоумевая, где русский гость учился композиции? Как выработал столь огромную музыкальную технику? Старый Лист потрясен, очарован, воодушевлен. Дарование этого любителя необыкновенно! «Следуйте вашему пути,— уверяет Лист,— никого не слушайте. Вы во всем всегда логичны, изобретательны и совершенно оригинальны, не слушайте никого — вот мой совет...» К «самодеятельному» композитору при жизни приходит мировая слава. Сам Лист рекомендует его музыку Европе! Но уже медленно накапливается усталость, огорчение из-за невозможности отдаться музыке целиком, недопустимости даже самой мысли — оставить любимые научные и преподавательские занятия.
«Мы, грешные, по-прежнему вертимся в водовороте житейской, служебной, учебной, ученой и художественной суеты... — пишет химик-композитор близким. — Всюду торопишься и никуда не поспеваешь; время летит, как локомотив на всех парах, седина подкрадывается в бороду, морщины бороздят лицо; начинаешь сотню вещей — удастся ли хоть десяток довести до конца? Я все тот же поэт в душе; питаю надежду довести оперу до заключительного такта и посмеиваюсь... над собой».
Восемнадцать лет отдал опере «Князь Игорь», работая с огромными перерывами, бросая и возвращаясь вновь, перемешивая в себе пласты музыки и науки. Закончили оперу Глазунов и Римский-Корсаков, его друзья, когда Бородина уже не было… Не выдержало сердце… В ситуации, подобной той в которой он оказался, мог бы, вероятно, выстоять лишь богатырь.
Нужно нам с вами знать это, коль скоро взялись вести разговор у людях полифонического склада. Я не хотел бы возбудить у молодых читателей опасные иллюзии о легкости поиска соб 
 ственных дарований. Он требует решительности, жертвенности, воли. Не каждому такая ноша по плечу. Но и не у каждого потребность в ней возникает. Как быть, если она настойчиво стучится в дверь? Задавить прочие таланты ради главного дела или попробовать в одной жизни прожить сразу несколько?
ственных дарований. Он требует решительности, жертвенности, воли. Не каждому такая ноша по плечу. Но и не у каждого потребность в ней возникает. Как быть, если она настойчиво стучится в дверь? Задавить прочие таланты ради главного дела или попробовать в одной жизни прожить сразу несколько?
Нелегко пойти на риск сочетания. Да, риск для здоровья, дела, личности: при слабом характере можно раздвоиться, сломаться. Что говорить, выбор труден, требует ума, трезвой понимания собственных возможностей. Канадский профессор Г. Селье, изучавший механизм стресса, советует рассчитывать силы: «У каждого есть свои пределы. Для некоторых они близки к максимуму возможного, для других к минимуму того, на что способен человек. Но в пределах своих возможностей каждый из нас должен стремиться к достижению своей вершины...»
Хорошо бы знать эти пределы, да как узнаешь, не испытав?
-6-
Когда Борис Данилов впервые увидел «короля» —токаря-лекальщика высшего разряда, человека лет пятидесяти, неторопливо двигавшегося за стеклянной перегородкой, он смотрел на него раскрыв рот. Токарь работал виртуозно, красиво, необычно, это было совсем непохоже на то, чем занимался Борис. Стушевался парень: «Где мне...» Готов был смириться, что всю жизнь придется точить одни и те же тракторные детали. Ночь провел без сна. А на другой день созрело твердое решение — стать « королем»!
Опуская подробности продвижения его к цели, скажу, что на время забросил он все: спорт, кино, друзей. Перешел в институт телемеханики, где работало несколько «королей», стал учиться у них, понял, что значит трудиться одержимо, увлекся настолько, что даже оставил мысль о поступлении в вуз. Позже несколько
Не раз переходил с завода на завод, требуя у мастеров все более сложную пробу, пока не подбросили ему невероятную головоломку и сказали недобро: «Тебе ли, шкету, по силам такая работа?» А он сделал «по микроскопу», с проверкой точности при тридцатикратном увеличении. «Здорово! — изумился мастер.— Где ты учился работать, парень?» Уклонился Борис: «Так, в разных местах».
Не стал рассказывать, что задача вызвала поначалу смятение. Взял потихоньку чертеж домой, сидел-сидел над ним, но так и не мог распутать. В отчаянии помчался в дачный поселок Лисий Нос, до полуночи, не зная адреса, искал бывшего своего учителя Павла Александровича Шведова, токаря милостью божьей. Тот взглянул, покачал головой: «Да-а...» Рассказал, объяснил. Но делал Борис сам. Никто за него у станка не стоял. Проба седьмого разряда.
Посвящение в «короли» — как венец его неудержимого прорыва навстречу собственной судьбе – состоялось в Ленинграде весной 1941 года.
Ему представлялось это вершиной жизни, да так оно вроде и было, если жизнь мерить профессиональной меркой. В токарном деле это предел, просто невозможно рассчитывать на большее. Мог бы успокоиться, остановиться... Действительности еще два таланта прозре 



 вали в нем, только-только проклюнулись: изобретательство и журналистика. Вот и попробуй угадай свои «пределы»!
вали в нем, только-только проклюнулись: изобретательство и журналистика. Вот и попробуй угадай свои «пределы»!
Через несколько месяцев после того, как стал «королем», где-то между Кингисеппом и Лугой пулеметчик добровольческой дивизии Борис Данилов получил крещение огнем. (Ранение оказалось тяжелым.) Старенький «Дуглас» летел над лесными оврагами, не поднимаясь выше двадцати метров, потом прошел почти над самым льдом Ладожского озера. За Уралом вытащили из колена осколок мины. Стопа и пальцы не работали. Нога высохла, одеревенела, как палка. Врач сказал: шанс только один — гимнастика, двигайте ногу руками! И он ворочал ее день за днем, до полного изнеможения. Выписался инвалидом.
В Ленинграде сорок четвертого, куда он вернулся, по улицам разгуливали крысы. Узнал, что мать умерла, а жена и сын, случайно спасшиеся, эвакуированы в Башкирию. Приковылял на завод, стал было работать. Но тут навалилась бронхиальная астма...
Болезнь прогрессировала, собес послал на курсы рыбоводства и через год выдал диплом, означавший конец токарной профессии, прощание не только с «королевским» троном, так тяжко доставшимся перед самой войной, но и с токарным делом вообще. Удочки, сети, крючки — тихая жизнь...
А тридцать лет спустя Бориса Федорович Данилова пригласили на Свердловский инструментальный завод. С палкой давно было покончено, он приехал на Урал бодрый, в зените славы токаря-лекальщика и изобретателя. Встав к станку, показал, как можно творить. Полцеха собралось посмотреть: такого тогда еще не видели. Несколько дней поработал инструктором на СИЗ, а однажды утром в номере гостиницы «Урал», где он жил, раздался звонок. «Товарищ Данилов? — спросил женский голос.— Говорит секретарь директора «Уралмаша». Директор просил узнать, когда вы могли бы сделать доклад о своих изобретениях на техсовете завода?» Была прислана «Волга», и токарь оказался в окружении начальников ОКБ, цехов, отделов. Рассказал им, кое-что показал в металле. Директор, выслушав всех, обратился к главному технологу и начальнику инструментального цеха: «Эти инструменты еще нигде не выпускаются, они новые, но они нам нужны. Чертежи оставит товарищ Данилов. Когда вы сможете их изготовить хотя бы в десяти экземплярах?»
История эта припомнилась Данилову, когда он в другой своей ипостаси, в роли журналиста, выступил в печати со статьей «Директор глазами рабочего». Воссоздал там образы толковых в бестолковых руководителей, деловых и суетливых, компетентных и пробующих «брать за горло».
Летом 1985-го гуляли мы с Борисом Федоровичем в сквере возле станции метро «Динамо», неподалеку от его дома. Он был все так же бодр, увлечен, рассказывал о своей новой работе в электронной промышленности: там потребовалось сделать крепкий, закаленный и, вместе с тем... немагнитный инструмент.
– Понимаете, какая хитрая задачка? — говорит Данилов. — Сплошное противоречие. Примерно то же самое, что пытаться сделать аппарат, который бы летал, но одновременно не отрывался от земли!.. Я побывал на многих заво 



 дах. Немагнитный мерительный инструмент нужен не только электронщикам. Его ждут и в оптико-механической отрасли, в приборостроении. И везде не знают, как выйти из положения. Берут нержавеющую сталь — она немагнитная, но она и не закаляется. А без закалки нет крепости! Тогда обращаются к немагнитной латуни, которая по прочности не лучше нержавейки. Не только трудно мерить таким инструментом, его изготовить-то почти невозможно: плывет под резцом, не дает точности, которая требуется для калибра...
дах. Немагнитный мерительный инструмент нужен не только электронщикам. Его ждут и в оптико-механической отрасли, в приборостроении. И везде не знают, как выйти из положения. Берут нержавеющую сталь — она немагнитная, но она и не закаляется. А без закалки нет крепости! Тогда обращаются к немагнитной латуни, которая по прочности не лучше нержавейки. Не только трудно мерить таким инструментом, его изготовить-то почти невозможно: плывет под резцом, не дает точности, которая требуется для калибра...
Вы уже знаете немного Бориса Федоровича Данилова и поэтому догадываетесь: никто не мог, а он сделал! Нашел оптимальный вариант: из минералокерамики. Причем материал на заводе, что называется, под ногами валялся: из него втулочки делают для изоляции. Подобно тому как приготавливают пластификат из твердого сплава, можно добавлять в керамический порошок каучук, спекать при температуре семьсот градусов, а потом полученную массу зажимать специальными креплениями и обрабатывать на станке, придавая ей любую форму. Готовое изделие из пластификата обжигается при температуре 1850 градусов.
— Ярко-красным становится,— рассказывает Данилов.— Красивое! Прочность равна твердому сплаву, но легче в пять раз. Не поддаете коррозии, немагнитно и сохраняет свойства твердого сплава, вольфрама, вещи очень дорогой, сырья, крайне дефицитного на мировом рынке..
— Ваша штука дешевле?
— Конечно! Раз в тридцать, если не в пятьдесят. Керамический порошок можно, условно говоря, грести экскаватором, а вольфрам получаем из-за рубежа.
Мы присели на скамейку, я достал диктофончик, и прохожие с удивлением наблюдали, как седой, энергично жестикулирующий человек что-то наговаривает в него. Рассказывал мне Данилов о недавней поездке в город детства и юности своей:
— В Ленинграде изобретательскую кунсткамеру открыли, молодцы! Там есть что и кому показать. Вот Зайцев Михаил Афанасьевич, прекрасно его знаю. Станочник, мастер по всем станкам, но решает проблемы группы крупных заводов, представляете? Металлический, Ижорский — гиганты! И он для них делает неслыханные токарные резцы. Я их видел. Производительность труда можно увеличить раза в полтора. А фреза его так и называется повсюду «фрезой Зайцева». Она выработку поднимает в двенадцать раз! Зайцев ежегодно дает экономию стране миллионов в шесть, представляете? А Козловский? Король пружин. В современной технике 160 видов пружин, самых замысловатых. Но вот конструктор, допустим, придумал совершенно новую, никогда не применявшуюся— пожалуйста, Козловский выдаст вам готовый автомат для ее изготовления...
Никто из рабочих-изобретателей, о которых рассказывал мне Борис Федорович, как и сам он, не имеет инженерного диплома. Но о таких говорят: «голова — академия». Работают за целый институт, да еще успевают в иных областях себя проявить.
– Мне кажется, не стоит замыкаться в одном деле, одной профессии,— размышляет Данилов. – Должно быть стремление к широте. 



 А иначе как использовать полностью свои «извилины»?
А иначе как использовать полностью свои «извилины»?
Токаря приняли в Союз журналистов СССР: шесть книг вышло у Бориса Федоровича, множество статей он опубликовал. А другую плоскость его жизни взять: семь изобретений, о дня из которых — «метчик-протяжка» — пошло по всей стране и за рубеж, повышает производительность труда токаря в тридцать раз! Сейчас уже серийно изготовляется... И еще он рыбак заядлый, не просто любитель, считай, профессионал: зря, что ли, окончил специальные курсы, имеет диплом рыбовода... Не забудем: он же и токарь-лекальщик, «король», по-прежнему работает у станка, выполняя операции, редким токарям доступные...
Борис Федорович подарил мне последнюю свою книгу: «Алмазы и люди». Я прочитал о запутанных тайнах, злодеяниях, баснословии дарах и трагических утратах, сбывшейся меча алхимиков, открытиях ученых, некоторых из которых автор знал лично, алмазном «буме» в машиностроении, роботах, изготавливающих сверхтвердые синтетические «камушки»... А самое замечательное для меня в этой книге Данилова — ее начало: «По профессии я токарь. Читатель, может быть, несколько удивится: почему токарь взялся писать об алмазах? А часть читателей будет, возможно, недоумевать: почему токарь вообще пишет?.. Однако ничего удивительного в том, что токарь написал книгу, нет».
Его первые успехи на производстве связаны с алмазным инструментом, который привезли тогда из Америки. Никаких инструкций о том, как им пользоваться, не имелось, и спросить было не у кого. Пришлось доходить своей головой и своими руками. И загорелся он желанием узнать об алмазах все...
По-арабски «алмаз» значит «непобедимый». Данилов пишет, что среди материальных ценностей нет на земле ничего, равного алмазу. Один грамм его на мировом рынке стоит в 300 раз дороже грамма золота. Читаю и думаю: «непобедимыми» можно назвать его самого и подобных ему. Перефразируя Бориса Федоровича, скажем, что среди человеческих ценностей на земле нет ничего, что было бы равно таланту и труду, употребленным с добрыми чувствами.
-7-
— У меня тридцать пять изобретений в цветной металлургии, люблю свою профессию, учусь в заочной аспирантуре, работаю над диссертацией,— сказал Владимир Григорьевич Масленников,— это одна жизнь. Другая — художественная фотография, фотоконкурсы, публикации в журналах, выставки. Третья — верхолазное дело, шестой разряд, опыт бригадирства. Мне сорок семь. Вышел на самый пик, Работается прекрасно. И знаете, три своих жизни хочу совместить в четвертой. С институтом медико-биологических проблем буду ставить эксперимент по изучению психологии и физиологии человека, работающего на высоте. Пригодятся все мои знания, умения, включая и фотографию.
Человека давно изучают в экстремальных условиях – в пустыне, на подводных глубинах, в горах, в арктических льдах, в космосе... Но как чувствует себя верхолаз, идущий над безд 
 ной, когда облака проплывают под ним? Какие реакции возникают в организме? Что может быть рекомендовано во избежание нервно-психологических стрессов?
ной, когда облака проплывают под ним? Какие реакции возникают в организме? Что может быть рекомендовано во избежание нервно-психологических стрессов?
Еще несколько лет назад, на симпозиуме по эргономике в Киеве, Масленников сделал доклад о верхолазах. Пожалуй, с этого и началось его сближение с медикобиологами. Верхолазов никто в стране не учит и никто не знает, как это нужно делать, — так он поставил вопрос. Человеку рассказывают о технике безопасности, проверяют здоровье — и полезай на верхотуру.
Люди, совершенно здоровые, ведут себя там странным образом. Цепенеют от ужаса, не в силах чем-либо полезным заниматься.
Боязнь высоты естественна, но одни из нас в состоянии ее преодолеть, сами или с чьей-то помощью, а другие не в силах. Я убедился, говорит Масленников, что большинство здоровых людей пригодно к работе верхолаза, надо лишь человека, фигурально выражаясь, взять за руку и провести через его страх, с которым он ничего поделать сам не может. Весь фокус в том, как именно «взять за руку».
У Масленникова накопился огромный опыт. За 25 лет работы в бригаде, возглавляемой им, не произошло ни одного несчастного случая. Поэтому и увлечен он разработкой системы, которая сделала бы уникальный опыт достоянием профессии.
Скажем, какие ситуации на высоте провоцируют страх больше всего? Непосвященный только руками разведет, кто его знает — все там жутковато... А Масленников ответит точно: открытое пространство за спиной. Вы стоите лицом к стене, не видите высоту, но знаете, что там, сзади, ничего. Очень сильно действует на нервную систему. Как и неогражденная площадка, к краю которой вы приближаетесь. Появляется неодолимое желание лечь, увеличить площадь опоры, держаться подальше.
— Подойти к самой кромке во весь рост и постоять там, глядя вниз, очень мало кто сможет из неопытных людей, будь они на земле хоть самыми отчаянными храбрецами.
— А вы можете?
— Ну конечно! Я покрасил на большой высоте около 150 объектов, много раз подходил
к открытому краю, для меня это текущая работа. Разумеется, со страховкой.
— Со страховкой, наверное, и любой...
— О, как вы заблуждаетесь! Скажу, что в проблеме страха страховка ровным счетом ничего не меняет. Человек может быть пристегнут двумя цепями, но бесполезно убеждать его, что нечего бояться. При взгляде вниз — а мы красили башни на высоте в 180 метров, это уровень крыши шестидесятиэтажного небоскреба — появляется непроизвольный страх.
Здесь масса интересных психологических и медикобиологических вопросов, говорит он; если бы у него была вторая жизнь, сам бы взялся написать кандидатскую и докторскую диссертации на эту тему. Но уже не успеет, сорок семь лет, будет защищаться по своей основной профессии. Лишь поможет психологам и врачам поставить высотный эксперимент.
В одну из наших встреч Масленников принес тяжелые альбомы. Я стал их листать, а он комментировал. Кадры интересны, и не только потому, что Владимир Григорьевич хороший 


 фотограф: с таких точек мне никогда не приходилось смотреть на мир.
фотограф: с таких точек мне никогда не приходилось смотреть на мир.
Сначала были московские высотные дома – он красил шпили всех, кроме МГУ. Потом замелькали фотографии башен и радиомачт. Признаюсь, только сейчас я понял разницу между ними: башня — свободно стоящая конструкция, а мачту держат растяжки. В конце ХХ века нет уголка, где бы не стали на бессменный свой пост железные витязи радио и телевидения. Включая голубой экран, щелкая ручкой приемника, мы не задумываемся о гигантской системе связи, обеспечивающей хорошее изображение и звук. И уж тем более о «хозяйственных подробностях», о том, что башни и мачты периодически нужно красить, предотвращая от коррозии. Ничего не знаем о «безумных» людях, поднимающихся на самую верхотуру, откуда и взглянуть-то жутко, с кистью в руках и ведром, пристегнутым к поясу.
«Первый выход над бездной. Высота 100 метров» — подпись под снимком. Потом будут отметки 108... 126... 180... Они лезли все выше и выше. И страх отступал. «На ста метрах тряслись, как зайцы,— комментирует Масленников,— а на большей высоте прохаживались гоголями. Время и опыт нас изменили».
Что они видят там, далеко внизу? Вот поля, похожие на половики, оставленные для просушки... Вот ровная, как стол, городская площадь. «Нет,— поправляет Масленников, – крыша многоэтажного административного здания».
Человек висит вниз головой, крася «с изнанки» металлическую площадку, на которой только что стоял. Под ним панорама, обычно открывающаяся с вертолета... На другой фотографии маляра держат над бездной лишь две ажурные цепи, ногами он уперся в боковую поверхность мачты, откинувшись в «свободном полете». Масленников: «когда мы преодолели страх, начали наслаждаться высотой. Чувство непередаваемое».
Заляпанные краской, умывающиеся олифой, в комбинезонах, похожих на рыцарские доспехи,— это они. Улыбающиеся, довольные, с аппетитом обедающие у подножия своих высотных чудищ — и это они. Жизнь, ничем не похожая на московскую, институтскую, где работает инженер Масленников. Неужели каждый отпуск так? Да, подтверждает, почти каждый, двадцать пять лет.
Сначала и женщины работали с ними на высоте, но потом не стали «слабый пол» приглашать. Боятся? «Нет, девушки смелые были, некоторые проявили себя хорошими верхолазами. Я вам скажу, что женщины вполне к этому способны, но только им незачем таким делом заниматься. Тяжелая работа, не женская».
Под фотографиями забавные подписи. «Воробушки» — люди, будто птички, сидят на горизонтальных трубах башни... «На подпольной работе» — покраска площадки снизу... «Не место красит человека, а человек место», «Приукрашаем действительность»—рабочие моменты из жизни маляров-верхолазов...
В экстремальной ситуации, говорит Масленников, чувство юмора — способ держать себя в форме. Они даже выпускали рукописный «псевдонаучный журнал» под названием «Некоторые аспекты современной верхомазии».

 Теперь оставим фотографии, юмор, поговорим о сути. Что привлекает их? Деньги?
Теперь оставим фотографии, юмор, поговорим о сути. Что привлекает их? Деньги?
— Не только... Мы, понятное дело, работаем не бесплатно. На основе официальных договоров. Никаких «шабашных» историй. Единые установленные в системе Министерства связи СССР и соответствующих строительных организаций, государственные нормы и расценки подрядным способом, оплата аккордная, по конечным результатам. Численность бригады по договору определяем сами. Работа тяжелая на большой высоте, соответственно и хороши заработки, не жалуемся. Однако нас притягивает и другое: возможность путешествовать – мы красим по всей стране, от западных до восточных границ, мужская дружба, которая нас соединила, самоутверждение — верхолазы выделяют себя из массы боязливых людей — и еще многое... У обывателя смысл жизни сводится к рублю. Денег нет — хнычет, вместо того чтобы заработать, как полагается мужчине, когда другой зарабатывает — опять хнычет, завидует. Ему трудно нас понять...
Бригада действует на основании выработанного ею «Устава», где сформулированы принципиальные положения, права и обязанности, правила оплаты труда, условия работы, учет времени, надбавки за квалификацию. Заканчивается «Устав» математической формулой рассчета зарплаты, а открывается таким вот, весьма любопытным, «Кредо бригады»:
«Наша бригада является сезонным производственным коллективом на сугубо добровольных началах. Цель нашего коллектива — сочетание умственного труда по специальности с напряженным физическим трудом в отпускное время. Основной движущей силой нашего коллектива является спортивное стремление работать значительно быстрее и качественнее, чем аналогичные профессиональные коллективы. Гордостью нашего коллектива является активная помощь народному хозяйству, участие во всесоюзных стройках и отличные отзывы организаций о нашей работе. Верхолазный спорт открывает исключительные возможности побывать в различных уголках страны и этим превосходит любые виды туризма. Это единственный вид спорта, где деньги не тратят, а зарабатывают».
— Уговор дороже денег,— говорит Масленников,— нам нравится такая поговорка. Все строится на основе уговора, добровольно принятых бригадой «правил игры». Условия должны быть известны всем, а сама «игра» — честной и открытой...
Благодаря фотографиям Владимира Григорьевича, как бы его глазами, я увидел Москву со шпиля высотного дома на Котельнической набережной. Владивосток с макушки телебашни, стоящей на сопке, Белоруссию, Сибирь, Среднюю Азию... Везде, где есть телебашни, радиобашни, радиорелейные линии, успел он за долгие годы побывать, поработать.
Безжизненная пустыня, испещренная, будто морщинистое лицо старца, паутиной дорог,— шоферы ездят, кому как вздумается, пляжи, леса, холмы, автомобили, верблюды — все, все с птичьего полета. Кто еще может такое наблюдать? Пассажир лайнера? Он высоко летит, над облаками. Вертолетчик к определенному региону приписан, не перемещается из тайги в зону пустынь. Наверное, позиция осмотра, вы 

 бранная Масленниковым и его друзьями, уникальна.
бранная Масленниковым и его друзьями, уникальна.
— Когда я женился, супругу с собой взял, на верхолазанье. Считайте, у нас медовый месяц на высоте прошел,— смеется,— на 180-метровой телебашне. Мы наверху и песни поем, обмениваемся шутками. Вокруг приволье. Будто паришь над землей и хочется щебетать, как щебечут птицы...
Пусть читатель представит себе, что с его балкона, находящегося выше пятого, допустим, этажа, далеко в сторону улицы уходит металлическая труба. И нужно пройтись по ней до конца, а затем вернуться назад. Смогли бы? Я смотрю на фотографию, где это проделывает девушка, а под ней — высота небоскреба! «Упасть Надя не может: страховка,— поясняет Владимир Григорьевич,— но требуется уверенность».
Труба круглая, не досочка. Идешь не налегке — с ведром краски на поясе, около десяти килограммов. Не ради ухарства, бравады. Все это так страшно, даже по снимкам судя, и в такой грязи приходится работать, что невозможно объяснить согласие только желанием получить деньги. Для увлечения «верхомазанием» нужно что-то большое, чем «шелестящие бумажки».
— Хотите, я вам расскажу,— говорит Масленников,— как мне психолог объяснял, зачем мы ездим на верхолазные работы? Сам он там не был, а мне растолковал. Человек, по его словам, прежде жил в природе и всегда должен был быть готов к опасности. Постоянно настороже. Иначе — гибель. Но вот он стал цивилизованным. Почти ничего в мирное время жизни его не угрожает. А все, что дала природа для борьбы с опасностями, осталось. И от этого противоречия у человека состояние дискомфорта. Люди начинают искать приключения, трудности, опасности всякого рода. Плывут в одиночестве через океан или на плотах по бурным рекам, идут через тайгу, пустыню, лезут на недоступный пик. Зачем? Психолог говорил, что человеком движет особое состояние — не хватка впечатлений, необходимость убедиться в своей боеспособности, что ли, желание излечиться от комплекса неполноценности. А средство одно: погружение в стихию опасности. Задумайтесь обо все этом — и вы нас гораздо лучше поймете...
Еще фото: темный силуэт Масленникова на фоне белых облаков. Одно облако на уровне его груди, другое — колена...
— А это что? Он пляшет, что ли, на трубе?
— Со страховкой... Демонстрирует чувство равновесия.
— Так он вообще на одной ноге стоит! И руки в стороны. Да еще улыбается...
— Позирует мне.
– А высота какая?
– Тут немного, с десятиэтажный дом...
– А это вы здесь висите?
– Не вишу, а лезу по вертикальному прутку.
– За счет мускулов?
– Не-е-т, я могу даже освободить обе руки, руками-то надо работать. Есть захваты специальные, их передвигаю.
Внизу будто лесопосадки мелких сосенок, но Масленников объясняет: высоченные деревья. А бархатистые ковры по сторонам — ровные макушки их.
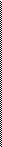
 Рыцари высоты крупным планом: в очках, бородатые. Все кандидаты наук: двое технических, третий — педагогических. Фамилий не называю, кто знает, может, не афишируют он эту свою отпускную жизнь? Заведующие отделами, секторами институтов, один — из заводских руководителей. Подшучивают над Масленниковым: «Зачем тебе, бригадир, быть кандидатом? Начнется панибратство — я кандидат, ты кандидат. Нет, ты должен над нами возвышаться. Чтобы мог сказать: я вам не кандидат какой-нибудь, слушаться меня!»
Рыцари высоты крупным планом: в очках, бородатые. Все кандидаты наук: двое технических, третий — педагогических. Фамилий не называю, кто знает, может, не афишируют он эту свою отпускную жизнь? Заведующие отделами, секторами институтов, один — из заводских руководителей. Подшучивают над Масленниковым: «Зачем тебе, бригадир, быть кандидатом? Начнется панибратство — я кандидат, ты кандидат. Нет, ты должен над нами возвышаться. Чтобы мог сказать: я вам не кандидат какой-нибудь, слушаться меня!»
Вглядываюсь в снимки, сделанные Владимиром Григорьевичем, вижу, что ко всему прочему он еще и замечательный мастер художественного фотопортрета. Характеры схвачены точно. Один из его друзей похож на страдальца за правду, народовольца в дореволюционной Сибири, ссыльнопоселенца («Но не сломленного!» — смеется Масленников); на другом —рабочая одежда, комбинезон заляпан краской, а лицо ироничное, тонкое, видно, что воспитанность, чувство собственного достоинства борются с желанием поозорничать. («Ребята над собой посмеиваются, для интеллигентов эта спецодежда немного маскарад. Думаю, посмеялся бы и рабочий человек, сними его во фраке на дипломатическом приеме».)
Есть у Масленникова и другая «фотографическая жизнь», не верхолазная, пейзаж: речка, лесок, луг, пригорок. Чистая, трогательная природа Приволжья. Снимать ездит в основном в страну своего детства, в Костромскую область. Это недалеко от Щелыково, усадьбы Островского. Красивые места, речки Мера и Медоза – притоки Волги, бывает там и зимой, и весной, и летом. Пейзажи его тонко передают настроение. Ракурсных ухищрений, технических приемов не любит.
Большие, наклеенные на картон фотопейзажи украшают его квартиру и раздариваются друзьям. А верхолазные снимки — другое, их на стены не вешает, Масленников их собирает в альбом для иллюстраций приемов и методов второй своей профессии.
Изобретательские способности, инженерные знания использует в бригаде. Отсюда и профессиональные методы организации дела, и технические приспособления по собственным разработкам. А чему верхолазная работа его самого обучила?
— Ответственности,— говорит Владимир Григорьевич.— все эти приспособления я проверял в первую очередь на себе... Что еще? Здоровье! Люблю в отпуске мышцами поиграть, почувствовать себя мужиком. Разве так окрепнешь, лежа па пляже? В Москву вернулся — энергии хоть отбавляй, голова чистая, давай, загружай ее снова! Вы вот удивились, что у меня тридцать пять авторских свидетельств на изобретения. Да я их по несколько штук ежегодно выдаю. Разве бы смог, если бы не перекачался?
Уверяет: верхолазная работа его сотворила. Дала внутреннюю силу. Научила не бояться масштабов предстоящего. Подходишь к башне – громадина, груда железа! Неужели это все можно покрасить? Глаза страшатся, а руки делают. И убеждаешься — можно. Снова и снова это происходит, каждый год. И понимаешь, говорит Масленников, что так и в любой работе: не бойся, берись смело. Избавился от страха — не только высоты, вообще пугаться чего бы то ни было перестал.
Двое сыновей в его семье. Отец мечтает, чтобы стали они людьми разносторонними. Нельзя, говорит, человеку всю жизнь по одной колее катиться.
— Я хотел бы, чтобы каждый из них сам подобрал себе хомут...
— Хомут?
— Это мне Пришвин вспомнился. Однажды его упрекнули: писатель, а бродите по лесам. Ответил примерно так: человеку предоставляется возможность подобрать себе хомут по шее, если этой возможности у вас не было, то ждите ее и воспользуйтесь, но коли вы прозевали, то ходите с хомутом, какой наденет на вас случай...
-8-
В полной темноте, когда шли до гостиницы, где ему предстояло еще часа два беседовать с журналистом (а завтра чуть свет — все та же известная директорская круговерть!), Гончаров сказал мне: «дикая нагрузка, врагу не пожелаешь... В отпуск хочу, устал, как собака».
Лицо у него широкоскулое, загорелое — директор больше времени проводит на улице, чем в кабинете, как и положено сельскому человеку. Волосы вьющиеся, про таких говорят: «кучерявый», крупный нос, глаза веселые, хотя жизнь его не балует, била и бьет, порой жестоко. Я видел его гневным, удрученным, усталым, но чаще всего — обаятельным, улыбающимся, особенно когда рассказывает о людях хозяйства.
Осматривали новый коттедж (в совхозе строят комфортабельные домики на две семьи, одну половину отдают лучшему рабочему, другую специалисту — демократично и справедливо), и Евгений Михайлович о Валентине Багрей упомянул, трактористке, она будет здесь жить:
— Телегероиня наша! Наверное, видели в передаче «А ну-ка, девушки!»?.. Победительница. Мы ее так и зовем: «Валя-лауреатка». Певунья, танцовщица. И не подумаешь, что трактором управляет сноровистей любого мужика, что мать четверых детей. Стройная, даже хрупкая. Сто раз ей предлагал: переходи с трактора, куда тебе с таким семейством? Другую работу бери, полегче. Нет, ни в какую! Нравится, говорит, мне. Сразу видно: нашей, Вороновской, школы выпускница.
Я уже наслышан о том, что школа в совхозе дает десятиклассникам профессию механизатора. Многие, подобно Валентине, остаются здесь навсегда. Может быть, еще и потому, что труд людей в хозяйстве отмечают отнюдь не стандартно. Есть у них три степени «художественного поощрения», как выразился директор: цветные слайды в музее — фотографии тех, кто получил правительственные награды; живописные портреты кисти Ахмета Китаева, московского художника, за выдающиеся достижения в труде и, наконец, скульптурный портрет. «Это уж я делаю. И не просто, кого задумал, того и слепил, нет, партком и профком решают вместе с дирекцией…» Вручают бюсты торжественно, во Дворце культуры, при всем честном народе, а потом по традиции устанавливают в Вороновской художественной галерее. Дома у награжденного, на память потомкам, остается копия. А в придачу – цветные телевизоры, золотые часы с дарственной надписью. «Не так, чтобы бюст — и до 

 свидания!» — в своей манере резюмирует Гончаров. Директор сам и лепит, и формует, и копии отливает.
свидания!» — в своей манере резюмирует Гончаров. Директор сам и лепит, и формует, и копии отливает.
Большой, двухметровой ширины, камин сельском кафе — тоже его работа. Задумал оформить очаг в виде «древа жизни», а по бокам (Гончаров сказал: «на крыльях»)—символические фигуры доброжелательности, здоровья, в совхозном Доме художника — есть и такой! – я видел другой камин директора-скульптора, где изразцы представляют собой оригинальную трактовку темы «искушение». Гончаров не только оформляет камины, но и делает технические расчеты, добиваясь красивой геометрии печи, отличной тяги. Зоотехнии, директор, скульптор, живописец, кузнец — мало? Он еще имеет хобби — каминных дел мастер!
А кто же кирпич кладет? Есть у нас умелец, говорят мне, познакомьтесь. Михаил Белик вытирает о полу халата широченную ладонь, руку жмет до боли. В его облике чувствуется крестьянская основательность, добротность. Голос негромкий, слово — со значением.
— Видите, змеи обвили женщину? — объясняет он мне смысл оформления пышущего жаром камина.— Укусить могут, но не трогают. Значит, решай сама, дорогая, хочешь, чтобы тебя укусили, или нет?.. Это не подсолнух, это солнышко... Здесь в центре — морда быка, но директор вылепил и льва для большого камина в кафе.
Гончаров поправляет: «Нет, Миша, там льва не будет. Львы у нас с тобой полки-плиты подопрут, на них поставим подсвечники. А на камине тоже будет бык. Мы же тореадоры!»
Великолепную бычью морду работы Гончарова видел я и в Вороновской художественной галерее — мощь, порыв, буйная силушка и вместе с тем что-то лукавое, доброе. Маленького гончаровского быка даже домой привез — на памятном значке. Предполагают и у главного входа в комплекс установить на стеллаже огромную, в метр размером, бычью голову. Гончаров се уже вылепил. Действительно, тореадоры! Мне слышится подтекст: тореадоры — рыцари духа — преодолевают «быка» инертности, дремоты в самом себе.
Михаил Белик тоже «тореадор».
— Ох, и повозился с большим камином,— рассказывает он,— кирпичики под реечку клал, миллиметр к миллиметру.
— Вы печник по специальности,— поинтересовался я,— или это увлечение ваше, как у директора? У вас профессия какая?
— Нет у меня профессии... Вы спросите, что умою? Кадушку — сделаю. И колесо для телеги. Любую деталь по дереву выточу. Автомашину отремонтирую. Мотор переберу...
— И мотор?
— Ну, я же много раз перебирал!.. И русскую печку сложить могу — все столярные работы знаю, токарные знаю. Электриком был... Кем я только не был!
– Кем?
– Директором не был... А начальством поменьше или что руками — все могу. Я и молотилку отремонтирую, пожалуйста... И учеников на токарей обучал, двенадцать лет отдал токарному делу. Шофером работал. Слесарем тоже был.
– Но своей основной специальностью вы что считаете?


 — Так нет же, говорю, у меня никакой специальности. Просто местный житель. Работу не меняю, не бегаю, как другие. Вместе с колхозом перешел в совхоз. И пахал сам, и сеял. Бригадиром был, бухгалтером...
— Так нет же, говорю, у меня никакой специальности. Просто местный житель. Работу не меняю, не бегаю, как другие. Вместе с колхозом перешел в совхоз. И пахал сам, и сеял. Бригадиром был, бухгалтером...
В Доме художника у Гончарова мастерская, занимается здесь и скульптурная секция совхозной художественной школы — семьдесят ребят, есть еще живописцы, резчики по дереву, но они в другом помещении. Что может быть увлекательнее для детей: настоящий скульптор, к тому же директор, стоит и лепит рядом с ними.
— Куда денешься? — Гончаров улыбается. – Окружат, как галчата. Выдумщики страшные! На память шуруют. И все за один раз. Не любят в два приема делать. Неинтересно им ждать до завтра. Вот, смотрите, малыш воробья сделал. Хорош? Нахохлился, прямо настоящий. А этот ежик? Сидит так кокетливо, нога за ногу — точно ежик!
Возле Дома художника крошечный пацан, лет пяти, подошел к Евгению Михайловичу и как некрасовский мужичок с ноготок важно, по-взрослому сказал: «здорово, директор!" Я изумился, а Гончаров рассмеялся, потрепав его по вихрам: «Здравствуй». — «Можно зайти поглядеть?» — «Можно».
— Эй, робя, директор разрешил! — кинул мальчишка за угол и тотчас же привел еще трех
карапузов, одному из которых едва три года исполнилось.
В мастерской «мужичок» принялся развивать успех: «А можно полепить?» Гончаров усадил их, сказал: приходите в секцию, записывайтесь, лепите на здоровье, но с преподавателем, а пока вот вам каждому по куску глины, берите домой и завтра покажете, что у вас получится, согласны?
Музеи, выставки не способны дать такой мощный толчок воображению, как ежедневное общение с художником, доступность его мастерской, возможность — просто так, баловства ради, для любопытства — взять в руки прохладный, вязкий ком, податливый, ожидающий пробуждения. Искушение, перед которым трудно устоять. Особенно когда в мастерской пылает камин, на котором тема «искушение», созданная фантазией Гончарова, переплетаясь с мотивом «тореадорства», притягивает взор и соблазняет душу.
Многие люди могли бы рисовать, петь, танцевать, музицировать, убежден Гончаров, но даже не догадываются об этом. («Выучился на зоотехника — и до свидания!») Сто двадцать ребят учатся в совхозной музыкальной школе, нельзя ожидать, что все они будут музыкантами, но если даже для себя станут играть — прекрасно!
Музыка разбудит душу, душа сложит песню твоей жизни.
… В этом месте я отложил перо, отвлекся: рядом прыгает и хохочет, гоняясь за солнечным зайчиком, четырехлетняя кареглазка. Голубой бант трепещет в льняных волосах, две маленьких ладошки шумно накрывают увертливое желтое пятнышко: хлоп! хлоп! Но оно вырывается, убегает… Не так ли тщетны и наши попытки поймать зайчик человеческой судьбы?
Кем станешь ты, крошка Оленька, внучка? Поешь и пляшешь, рисуешь и фантазируешь —  как все дети. Что расцветет в тебе, что завянет, а главное — почему?
как все дети. Что расцветет в тебе, что завянет, а главное — почему?
В тесной комнате кроватка ее стояла у отцовского пианино. Нужно было заниматься, и он играл, не обращая на ребенка внимания, не боясь потревожить. Шутил: пусть обучается во сне, как языку. Малышка, слышала ли ты эти аккорды? Аукнутся ли фортепьянные сны в твоей будущей жизни? Боялись: станет нервной, возбудимой. Нет, растет веселое, трогательное существо и уже тянется пальчиком к клавишам, любит бренчать, запоминает несложные мотивы, радует пробивающимся слухом. Надолго ли? Вмиг все может исчезнуть, перевернуться.
Виктор, отец ее, не имел такого примера. В доме у нас никто не играл. Отчего же, еще не умея говорить, лепетал «песенки»? Бабушкины напевы отозвались? Г
Date: 2015-10-18; view: 333; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |