
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

т. 21, стр. 369—317
Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии
Ввиду этого мне казалось все более и более своевременным изложить в сжатой систематической форме наше отношение к гегелевской философии,— как мы из нее исходили и как мы с ней порвали. Точно так же я считал, что за нами остается неоплаченный долг чести: полное признание того влияния, которое в наш период бури и натиска оказал на нас Фейербах в большей мере, чем какой-нибудь другой философ после Гегеля. Поэтому я охотно воспользовался случаем, когда редакция журнала «Neue Zeit» попросила меня написать критический разбор книги Штарке о Фейербахе2. Моя работа появилась в №№ 4 и 5 названного журнала за 1886 г., а теперь выходит отдельным, пересмотренным мной, оттиском.
Прежде чем отправить в печать эти строки, я отыскал и еще раз просмотрел старую рукопись 1845—1846 годов. Отдел о Фейербахе в ней не закончен. Готовую часть составляет изложение материалистического понимания истории; это изложение показывает только, как еще недостаточны были наши тогдашние познания в области экономической истории. В рукописи недостает критики самого учения Фейербаха; она поэтому не могла быть пригодной для данной цели. Но зато в одной старой тетради Маркса я нашел одиннадцать тезисов о Фейербахе, которые и напечатаны в качестве приложения. Это — наскоро набросанные заметки, подлежавшие дальнейшей разработке и отнюдь не предназначавшиеся для печати. Но они неоценимы как первый документ, содержащий в себе гениальный зародыш нового мировоззрения.
Лондон, 21 февраля 1888 г.
Фридрих Энгельс
Печатается по тексту
Сочинений К. Маркса и Ф, Энгельса,
Т. 21, стр. 870—871
ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ И КОНЕЦ КЛАССИЧЕСКОЙ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ з
I
Рассматриваемое сочинение * возвращает нас к пе- риоду, по времени отстоящему от нас на одно человече- ское поколение, но ставшему до такой степени чуждым нынешнему поколению в Германии, как если бы он был отдален от него уже на целое столетие. И все же это был период подготовки Германии к революции 1848 г., а все происходившее у нас после, явилось лишь продолжением 1848 г., выполнением завещания революции.
Подобно тому как во Франции в XVIII веке, в Германии в XIX веке философская революция предшествовала политическому перевороту. Но как не похожи одна на другую эти философские революции! Французы веду открытую войну со всей официальной наукой, с церковью, часто также с государством; их сочинения печатаются по ту сторону границы, в Голландии или в Англии, а сами они нередко близки к тому, чтобы попасть в Бастилию. Напротив, немцы — профессора, государством назначенные наставники юношества; их сочинения - общепризнанные руководства, а система Гегеля — венец всего философского развития — до известной степей даже возводится в чин королевско-прусской государственной философии! И за этими профессорами, за их педантически-темными словами, в их неуклюжих, скучных периодах скрывалась революция? Да разве те люди, которые считались тогда представителями революции,-
* «Ьийшд РеиегЪасЬ», уоп С. N. 8*агске, Бг. рЫ1.—81и«каг Регй. Епске, 1885 [«Людвиг Фейербах». Сочинение д-ра фш К. Б. Штарке, Штутгарт, издание Ферд. Энке, 1885].


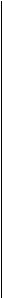
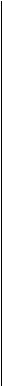 либералы — не были самыми рьяными противниками этой философии, вселявшей путаницу в человеческие головы? Однако то, чего не замечали ни правительства, ни либералы, видел уже в 1833 г., по крайней мере, один человек; его звали, правда, Генрих Гейне4.
либералы — не были самыми рьяными противниками этой философии, вселявшей путаницу в человеческие головы? Однако то, чего не замечали ни правительства, ни либералы, видел уже в 1833 г., по крайней мере, один человек; его звали, правда, Генрих Гейне4.
Возьмем пример. Ни одно из философских положений не было предметом такой признательности со стороны близоруких правительств и такого гнева со стороны не менее близоруких либералов, как знаменитое положение Гегеля:
«Все действительное разумно; все разумное действительно» 5.
Ведь оно, очевидно, было оправданием всего существующего, философским благословением деспотизма, полицейского государства, королевской юстиции, цензуры. Так думал Фридрих-Вильгельм III; так думали и его подданные. Но у Гегеля вовсе не все, что существует, является безоговорочно также и действительным. Атрибут действительности принадлежит у него лишь тому, что в то же время необходимо.
«В своем развертывании действительность раскрывается как необходимость».
Та или иная правительственная мера — сам Гегель берет в качестве примера «известное налоговое установление» — вовсе не признается им поэтому безоговорочно за нечто действительное6. Но необходимое оказывается, в конечном счете, также и разумным, и в применении к тогдашнему прусскому государству гегелевское положение означает, стало быть, только следующее: это государство настолько разумно, настолько соответствует разуму, насколько оно необходимо. А если оно все-таки оказывается, на наш взгляд, негодным, но, несмотря на свою негодность, продолжает существовать, то негодность правительства находит свое оправдание и объяснение в соответственной негодности подданных. Тогдашние пруссаки имели такое правительство, какого они заслуживали.
Однако действительность по Гегелю вовсе не представляет собой такого атрибута, который присущ данномуобщественному или политическому порядку при всех обстоятельствах и во все времена. Напротив. Римскаяреспублика была действительна, но действительнабыла и вытеснившая ее Римская империя. Французская
монархия стала в 1789 г. до такой степени недействительной, то есть до такой степени лишенной всякой необходимости, до такой степени неразумной, что ее должна была уничтожить великая революция, о которой Гегель всегда говорит с величайшим воодушевлением. Здесь, следовательно, монархия была недействительной, а революция действительной. И совершенно так же, по мере развития, все, бывшее прежде действительным, становится недействительным, утрачивает свою необходимость, свое право на существование, свою разумность. Место отмирающей действительности занимает новая, жизнеспособная действительность, занимает мирно, если старое достаточно рассудительно, чтобы умереть без сопротивления,— насильственно, если оно противится этой необходимости. Таким образом, это гегелевское положение благодаря самой гегелевской диалектике превращается в свою противоположность: все действительное в области человеческой истории становится со временем перазумным, оно, следовательно, неразумно уже по самой своей природе, заранее обременено неразумностью; а все, что есть в человеческих головах разумного, предназначено к тому, чтобы стать действительным, как бы ни противоречило оно существующей кажущейся действительности. По всем правилам гегелевского метода мышления, тезис о разумности всего действительного превращается в другой тезис: достойно гибели все то, что существует *.
Но именно в том и состояло истинное значение и революционный характер гегелевской философии (которой, как завершением всего философского движения со времени Канта, мы должны здесь ограничить наше рассмотрение), что она раз и навсегда разделалась со всяким представлением об окончательном характере результатов человеческого мышления и действия. Истина, которую должна познать философия, представлялась Гегелю уже не в виде собрания готовых догматических положений, которые остается только зазубрить, раз они открыты; истина теперь заключалась в самом процессе познания, в длительном историческом развитии науки, поднимающейся с низших ступеней знания на все более
* Перефразированные слова Мефистофеля из трагедии Гёте «Фауст», часть I, сцена третья («Кабинет Фауста»). Ред.





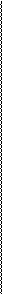 высокие, но никогда не достигающей такой точки, от которой она, найдя некоторую так называемую абсолютную истину, уже не могла бы пойти дальше и где ей не оставалось бы ничего больше, как, сложа руки, с изумлением созерцать эту добытую абсолютную истину. И так обстоит дело не только в философском, но и во всяком другом познании, а равно и в области практического действия. История так же, как и познание, не может получить окончательного завершения в каком-то совершенном, идеальном состоянии человечества; совершенное общество, совершенное «государство», это — вещи, которые могут существовать только в фантазии. Напротив, все общественные порядки, сменяющие друг друга в ходе истории, представляют собой лишь преходящие ступени бесконечного развития человеческого общества от низшей ступени к высшей. Каждая ступень необходима и, таким образом, имеет свое оправдание для того времени и для тех условий, которым она обязана своим происхождением. Но она становится непрочной и лишается своего оправдания перед лицом новых, более высоких условий, постепенно развивающихся в ее собственных недрах. Она вынуждена уступить место более высокой ступени, которая, в свою очередь, также приходит в упадок и гибнет. Эта диалектическая философия разрушает все представления об окончательной абсолютной истине и о соответствующих ей абсолютных состояниях человечества так же, как буржуазия посредством крупной промышленности, конкуренции и всемирного рынка практически разрушает все устоявшиеся, веками освященные учреждения. Д ля диалектической философии 1 нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему. Она сама является лишь простым отражением этого процесса в ] мыслящем мозгу. У нее, правда, есть и консервативная сторона: каждая данная ступень развития познания и общественных отношений оправдывается ею для своего времени и своих условий, но не больше. Консерватизм этого способа понимания относителен, его революционный характер абсолютен — вот единственное абсолютное, признаваемое диалектической философией.
высокие, но никогда не достигающей такой точки, от которой она, найдя некоторую так называемую абсолютную истину, уже не могла бы пойти дальше и где ей не оставалось бы ничего больше, как, сложа руки, с изумлением созерцать эту добытую абсолютную истину. И так обстоит дело не только в философском, но и во всяком другом познании, а равно и в области практического действия. История так же, как и познание, не может получить окончательного завершения в каком-то совершенном, идеальном состоянии человечества; совершенное общество, совершенное «государство», это — вещи, которые могут существовать только в фантазии. Напротив, все общественные порядки, сменяющие друг друга в ходе истории, представляют собой лишь преходящие ступени бесконечного развития человеческого общества от низшей ступени к высшей. Каждая ступень необходима и, таким образом, имеет свое оправдание для того времени и для тех условий, которым она обязана своим происхождением. Но она становится непрочной и лишается своего оправдания перед лицом новых, более высоких условий, постепенно развивающихся в ее собственных недрах. Она вынуждена уступить место более высокой ступени, которая, в свою очередь, также приходит в упадок и гибнет. Эта диалектическая философия разрушает все представления об окончательной абсолютной истине и о соответствующих ей абсолютных состояниях человечества так же, как буржуазия посредством крупной промышленности, конкуренции и всемирного рынка практически разрушает все устоявшиеся, веками освященные учреждения. Д ля диалектической философии 1 нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему. Она сама является лишь простым отражением этого процесса в ] мыслящем мозгу. У нее, правда, есть и консервативная сторона: каждая данная ступень развития познания и общественных отношений оправдывается ею для своего времени и своих условий, но не больше. Консерватизм этого способа понимания относителен, его революционный характер абсолютен — вот единственное абсолютное, признаваемое диалектической философией.
Нам нет надобности вдаваться здесь в рассмотрение вопроса о том, вполне ли этот способ понимания согласуется с нынешним состоянием естественных наук, которые самой Земле предсказывают возможный, а ее обитаемости довольно достоверный конец и тем самым говорят, что и у истории человечества будет не только восходящая, но и нисходящая ветвь. Мы находимся, во всяком случае, еще довольно далеко от той поворотной точки, за которой начнется движение истории общества по нисходящей линии, и мы не можем требовать от гегелевской философии, чтобы она занималась вопросом, еще не поставленным в порядок дня современным ей естествознанием.
Однако здесь необходимо заметить следующее: вышеприведенные взгляды не даны Гегелем в такой резкой форме. Это вывод, к которому неизбежно приводит его метод, но этот вывод никогда не был сделан им самим с такой определенностью, и по той простой причине, что Гегель вынужден был строить систему, а философская система, по установившемуся порядку, должна была завершиться абсолютной истиной того или иного рода. И тот же Гегель, который, особенно в своей «Логике» 7, подчеркивает, что эта вечная истина есть не что иное, как сам логический (геsр. *: исторический) процесс,— тот же самый Гегель видит себя вынужденным положить конец этому процессу, так как надо же было ему на чем-то закончить свою систему. В «Логике» этот конец он снова может сделать началом, потому что там конечная точка, абсолютная идея,— абсолютная лишь постольку, поскольку он абсолютно ничего не способен сказать о ней,— «отчуждает» себя (то есть превращается) в природу, а потом в_духе,—то есть в мышлении и в исто рии,— снов а возвращается к самой себе. Но в конце всей философии для подобного возврата к началу оставался только один путь. А именно, нужно было так представить себе конец истории: человечество приходит к познанию как раз этой абсолютной идеи и объявляет, что это познание абсолютной идеи достигнуто в гегелевской философии. Но это значило провозгласить абсолютной истиной все догматическое содержание системы Гегеля и тем стать в противоречие с его диалектическим методом,
* — геspective — соответственно. Ред.

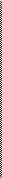
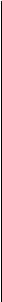

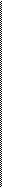 разрушающим все догматическое. Это означало задушить революционную сторону под тяжестью непомерно разросшейся консервативной стороны,— и не только в области философского познания, но и в исторической практике. Человечество, которое в лице Гегеля додумалось до абсолютной идеи, должно было и в практической области оказаться ушедшим вперед так далеко, что для него уже стало возможным воплощение этой абсолютной идеи в действительность. Абсолютная идея не должна была, значит, предъявлять своим современникам слишком высокие практические политические требования. Вот почему мы в конце «Философии права» узнаем, что абсолютная идея должна осуществиться в той сословной монархии, которую Фридрих-Вильгельм III так упорно и так безрезультатно обещал своим подданным, то есть, стало быть, в ограниченном и умеренном косвенном господстве имущих классов, приспособленном к тогдашним мелкобуржуазным отношениям Германии. И притом нам еще доказывается умозрительным путем необходимость дворянства.
разрушающим все догматическое. Это означало задушить революционную сторону под тяжестью непомерно разросшейся консервативной стороны,— и не только в области философского познания, но и в исторической практике. Человечество, которое в лице Гегеля додумалось до абсолютной идеи, должно было и в практической области оказаться ушедшим вперед так далеко, что для него уже стало возможным воплощение этой абсолютной идеи в действительность. Абсолютная идея не должна была, значит, предъявлять своим современникам слишком высокие практические политические требования. Вот почему мы в конце «Философии права» узнаем, что абсолютная идея должна осуществиться в той сословной монархии, которую Фридрих-Вильгельм III так упорно и так безрезультатно обещал своим подданным, то есть, стало быть, в ограниченном и умеренном косвенном господстве имущих классов, приспособленном к тогдашним мелкобуржуазным отношениям Германии. И притом нам еще доказывается умозрительным путем необходимость дворянства.
Итак, уже одни внутренние нужды системы достаточно объясняют, почему в высшей степени революционный метод мышления привел к очень мирному политическому выводу. Но специфической формой этого вывода мы обязаны, конечно, тому обстоятельству, что Гегель был немец и, подобно своему современнику Гёте, не свободен от изрядной дозы филистерства. Гёте, как и Гегель, был в своей области настоящий Зевс-олимпиец, но ни тот, ни другой не могли вполне отделаться от немецкого филистерства.
Все это не помешало, однако, тому, что гегелевская система охватила несравненно более широкую область, чем какая бы то ни было прежняя система, и развила в этой области еще и поныне поражающее богатство мыслей. Феноменология духа (которую можно было бы назвать параллелью эмбриологии и палеонтологии духа, отображением индивидуального сознания на различных ступенях его развития, рассматриваемых как сокращенное воспроизведение ступеней, исторически пройденных человеческим сознанием), логика, философия природы, философия духа, разработанная в ее отдельных исторических подразделениях: философия истории, права, религии, история философии, эстетика и т. д.,—в каждой
из этих различных исторических областей Гегель старается найти и указать проходящую через нее нить развития. А так как он обладал не только творческим гением, но и энциклопедической ученостью, то его выступление везде составило эпоху. Само собой понятно, что нужды «системы» довольно часто заставляли его здесь прибегать к тем насильственным конструкциям, по поводу которых до сих пор поднимают такой ужасный крик его ничтожные противники. Но эти конструкции служат только рамками, лесами возводимого им здания. Кто не задерживается излишне на них, а глубже проникает в грандиозное здание, тот находит там бесчисленные сокровища, до настоящего времени сохранившие свою полную ценность. У всех философов преходящей оказывается как раз «система», и именно потому, что системы возникают из непреходящей потребности человеческого духа: потребности преодолеть все противоречия Но если бы все противоречия были раз навсегда устранены, то мы пришли бы к так называемой абсолютной истине,— всемирная история была бы закончена и в тс же время должна была бы продолжаться, хотя ей уже ничего не оставалось бы делать. Таким образом, тут получается новое, неразрешимое противоречие. Требовать от философии разрешения всех противоречий, значит требовать, чтобы один философ сделал такое дело, какое в состоянии выполнить только все человечество в своем поступательном развитии. Раз мы поняли это,— а этим мы больше, чем кому-нибудь, обязаны Гегелю,— то всей философии в старом смысле слова приходит конец. Мы оставляем в покое недостижимую на этом пути и для каждого человека в отдельности «абсолютную истину» и зато устремляемся в погоню за достижимыми для нас относительными истинами по пути положительных наук и обобщения их результатов при помощи диалектиче - ского мышления. Гегелем вообще завершается филосо - фия, с одной стороны, потому, что его система представ -ляет собой величественный итог всего предыдущего раз - вития философии, а с другой — потому, что он сам, хотя и бессознательно, указывает нам путь, ведущий из этого лабиринта систем к действительному положительному познанию мира.
Нетрудно понять, какое огромное воздействие должна была произвести гегелевская система в философски

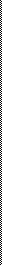

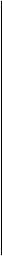 окрашенной атмосфере Германии. Это было триумфальное шествие, длившееся целые десятилетия и далеко не прекратившееся со смертью Гегеля. Напротив, именно период с 1830 до 1840 г. был временем исключительного господства «гегельянщины», заразившей в большей или меньшей степени даже своих противников; именно в этот период взгляды Гегеля, сознательным или бессознательным путем, в изобилии проникали в самые различные науки и давали закваску даже популярной литературе и ежедневной печати, из которых среднее «образованное сознание» черпает свой запас идей. Но эта победа по всей линии была лишь прологом междоусобной войны.
окрашенной атмосфере Германии. Это было триумфальное шествие, длившееся целые десятилетия и далеко не прекратившееся со смертью Гегеля. Напротив, именно период с 1830 до 1840 г. был временем исключительного господства «гегельянщины», заразившей в большей или меньшей степени даже своих противников; именно в этот период взгляды Гегеля, сознательным или бессознательным путем, в изобилии проникали в самые различные науки и давали закваску даже популярной литературе и ежедневной печати, из которых среднее «образованное сознание» черпает свой запас идей. Но эта победа по всей линии была лишь прологом междоусобной войны.
Взятое в целом, учение Гегеля оставляло, как мы видели, широкий простор для самых различных практических партийных воззрений. А практическое значение имели в тогдашней теоретической жизни Германии прежде всего две вещи — религия и политика. Человек, придававший главное значение системе Гегеля, мог быть довольно консервативным в каждой из этих областей. Тот же, кто главным считал диалектический метод, мог и в религии и в политике принадлежать к самой крайней оппозиции. Сам Гегель, несмотря на довольно частые в его сочинениях взрывы революционного гнева, в общем, по-видимому, склонялся больше к консервативной стороне: недаром же его система стоила ему гораздо более «тяжелой работы мысли», чем его метод. К концу тридцатых годов раскол в его школе становился все более и более заметным. В борьбе с правоверными пиетистами и феодальными реакционерами левое крыло — так называемые младогегельянцы — отказывалось мало-помалу от того философски-пренебрежительного отношения к жгучим вопросам дня, которое обеспечивало до сих пор его учению терпимость и даже покровительство со стороны правительства. А когда в 1840 г. правоверное ханжество и феодально-абсолютистская реакция вступили на престол в лице Фридриха-Вильгельма IV, пришлось открыто стать на сторону той или другой партии. Борьба велась еще философским оружием, но уже не ради абстрактно-философских целей. Речь прямо шла уже об уничтожении унаследованной религии и существующего государства. И если в «Deutsche JаhrЬucher» 8 практические конечные цели выступали по преимуществу еще в философском одеянии, то в «Rheinische Zeitung»9 1842 г. младогегельянство выступило уже прямо как философия поднимающейся радикальной буржуазии философский плащ служил ей лишь для отвода глаз цен- зуре.
Но путь политики был тогда весьма тернистым, по- этому главная борьба направлялась против религии. Впро- чем, в то время, особенно с 1840 г., борьба против религии косвенно была и политической борьбой. Первый толчок дала книга Штрауса «Жизнь Иисуса», вышедшая 1835 году10. Против изложенной в этой книге теории воз- никновения евангельских мифов выступил позднее Бруно Бауэр, доказывавший, что целый ряд евангельских рас- сказов сфабрикован самими авторами евангелий. Спор ме- жду Штраусом и Бауэром велся под видом философской борьбы между «самосознанием» и «субстанцией». Вопрос о том, возникли ли евангельские рассказы о чудесах пу- тем бессознательного, основанного на традиции, создания мифов в недрах общины или же они были сфабрикованы самими евангелистами,— разросся до вопроса о том, что является главной действующей силой во всемирной ис- тории: «субстанция» или «самосознание». Наконец, явился Штирнер, пророк современного анархизма — у него очень много заимствовал Бакунин — и перещеголял суверенное «самосознание» своим суверенным «единственным» п.
Мы не станем подробнее рассматривать эту сторону процесса разложения гегелевской школы. Для нас важ- нее следующее: практические потребности их борьбы против положительной религии привели многих из самых решительных младогегельянцев к англо-французскому материализму. И тут они вступили в конфликт с системой своей школы. В то время как материализм рассматривает природу как единственно действительное, в гегелевской системе природа является всего лишь «отчуждением» абсолютной идеи, как бы ее деградацией; во всяком случае мышление и его мыслительный продукт, идея, являются здесь первичным, а природа — производным, существующим лишь благодаря тому, что идея снизошла до этого. В этом противоречии и путались на разные лады младогегельянцы.
Тогда появилось сочинение Фейербаха «Сущность христианства» 12. Одним ударом рассеяло оно это противоречие, снова и без обиняков провозгласив торжество материализма.
12 13
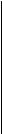
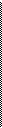
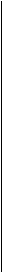

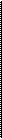 Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Она есть та основа, на которой выросли мы, люди, сами продукты природы. Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, это — лишь фантастические отражения нашей собственной сущности. Заклятие было снято; «система» была взорвана и отброшена в сторону, противоречие разрешено простым обнаружением того обстоятельства, что оно существует только в воображении.— Надо было пережить освободительное действие этой книги, чтобы составить себе представление об этом. Воодушевление было всеобщим: все мы стали сразу фейербахианцами. С каким энтузиазмом приветствовал Маркс новое воззрение и как сильно повлияло оно на него, несмотря на все критические оговорки, можно представить себе, прочитав «Святое семейство» 13.
Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Она есть та основа, на которой выросли мы, люди, сами продукты природы. Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, это — лишь фантастические отражения нашей собственной сущности. Заклятие было снято; «система» была взорвана и отброшена в сторону, противоречие разрешено простым обнаружением того обстоятельства, что оно существует только в воображении.— Надо было пережить освободительное действие этой книги, чтобы составить себе представление об этом. Воодушевление было всеобщим: все мы стали сразу фейербахианцами. С каким энтузиазмом приветствовал Маркс новое воззрение и как сильно повлияло оно на него, несмотря на все критические оговорки, можно представить себе, прочитав «Святое семейство» 13.
Даже недостатки книги Фейербаха усиливали тогда ее влияние. Беллетристический, местами даже напыщенный слог обеспечивал книге широкий круг читателей и, во всяком случае, действовал освежающе после долгих лет господства абстрактной и темной гегельянщины. То же следует сказать и о непомерном обожествлении любви, которое можно было извинить, хотя и не оправдать, как реакцию против ставшего невыносимым самодержавия «чистого мышления». Мы не должны, однако, забывать, что именно за обе эти слабые стороны Фейербаха ухватился «истинный социализм», который, как зараза, распространялся с 1844 г. в среде «образованных» людей Германии и который научное исследование заменял беллетристической фразой, а на место освобождения пролетариата путем экономического преобразования производства ставил освобождение человечества посредством «любви»,— словом, ударился в самую отвратительную беллетристику и любвеобильную болтовню. Типичным представителем этого направления был г-н Карл Грюн.
Не следует, далее, забывать и следующего: гегелевская школа разложилась, но гегелевская философия еще не была критически преодолена. Штраус и Бауэр, взяв каждый одну из ее сторон, направили их, как полемическое оружие, друг против друга. Фейербах разбил систему и попросту отбросил ее. Но объявить данную философию ошибочной еще не значит покончить с ней. И нельзя было посредством простого игнорирования устранить такое вели-
кое творение, как гегелевская философия, которая имел огромное влияние на духовное развитие нации. Ее надо было «снять» в ее собственном смысле, то есть критика дол- жна была уничтожить ее форму и спасти добытое ею но- вое содержание. Ниже мы увидим, как решена была эта задача.
Тем временем, однако, революция 1848 г. так же бесцеремонно отодвинула в сторону всякую философию, как Фейербах своего Гегеля. А вместе с тем был оттеснен на задний план и сам Фейербах.
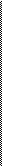

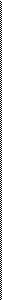

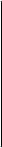 II
II
Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию. Уже с того весьма отдаленного времени, когда люди, еще не имея никакого понятия о строении своего тела и не умея объяснить сновидений *, пришли к тому представлению, что их мышление и ощущения есть деятельность не их тела, а какой-то особой души, обитающей в этом теле и покидающей его при смерти,— уже с этого времени они должны были задумываться об отношении этой души к внешнему миру. Если она в момент смерти отделяется от тела и продолжает жить, то нет никакого повода придумывать для нее еще какую-то особую смерть. Так возникло представление о ее бессмертии, которое на той ступени развития казалось отнюдь не утешением, а неотвратимой судьбой и довольно часто, например у греков, считалось подлинным несчастьем. Не религиозная потребность в утешении приводила всюду к скучному вымыслу о личном бессмертии, а то простое обстоятельство, что, раз признав существование души, люди в силу всеобщей ограниченности никак не могли объяснить себе, куда же девается она после смерти тела. Совершенно подобным же образом вследствие олицетворения сил природы возникли первые боги, которые в ходе дальнейшего
* Еще и теперь у дикарей и варваров низшей ступени повсеместно распространено представление, что являющиеся им во сне человеческие образы суть души, на время покинувшие тело; при этом на действительного человека возлагается ответственность за те его поступки, которые снились видевшему сон. Это заметил, например, им Турн в 1884 г. у индейцев Гвианы 14.
развития религии принимали все более и более облик вне-мировых сил, пока в результате процесса абстрагирования — я чуть было не сказал: процесса дистилляции,— со- вершенно естественного в ходе умственного развития, в головах людей не возникло, наконец, из многих более или менее ограниченных и ограничивающих друг друга богов представление о едином, исключительном боге монотеисти- ческих религий.
Высший вопрос всей философии, вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе, имеет свои корни стало быть, не в меньшей степени, чем всякая религия, в ограниченных и невежественных представлениях людей периода дикости. Но он мог быть поставлен со всей резко- стью, мог приобрести все свое значение лишь после того, как население Европы пробудилось от долгой зимней спяч- ки христианского средневековья. Вопрос об отношении мышления к бытию, о том, что является первичным: дух или природа,—этот вопрос, игравший, впрочем, болыпую роль и в средневековой схоластике, вопреки церкви при- нял более острую форму: создан ли мир богом или он су- ществует от века?
Философы разделились на два больших лагеря сооб- разно тому, как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, и ко- торые, следовательно, в конечном счете, так или иначе признавали сотворение мира,— а у философов, например у Гегеля, сотворение мира принимает нередко еще более запутанный и нелепый вид, чем в христианстве,— составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма.
Ничего другого первоначально и не означают выраже- ния: идеализм и материализм, и только в этом смысле они здесь и употребляются. Ниже мы увидим, какая путаница возникает в тех случаях, когда им придают какое- либо другое значение.
Но вопрос об отношении мышления к бытию имеет еще и другую сторону: как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру? В состоянии ли наше мышление познавать действительный мир, можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности? На философском языке этот вопрос называется вопросом 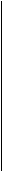
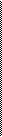

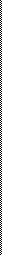 о тождестве мышления и бытия.
о тождестве мышления и бытия.
Громадное большинство философов утвердительно решает этот вопрос. Так, например, у Гегеля утвердительный ответ на этот вопрос подразумевается сам собой: в действительном мире мы познаем именно его мыслительное содержание, именно то, благодаря чему мир оказывается постепенным осуществлением абсолютной идеи, которая от века существовала где-то независимо от мира и прежде него. Само собой понятно, что мышление может познать то содержание, которое уже заранее является содержанием мысли. Не менее понятно также, что доказываемое положение здесь молчаливо уже содержится в самой предпосылке. Но это никоим образом не мешает Гегелю делать из своего доказательства тождества мышления и бытия тот дальнейший вывод, что так как его мышление признает правильной его философию, то, значит, она есть единственно правильная философия и что, в силу тождества мышления и бытия, человечество должно немедленно перенести эту философию из теории в практику и переустроить весь мир сообразно гегелевским принципам. Эту иллюзию он разделяет почти со всеми другими философами.
Но рядом с этим существует ряд других философов, которые оспаривают возможность познания мира или, по крайней мере, исчерпывающего познания. К ним принадлежат среди новейших философов Юм и Кант, и они играли очень значительную роль в развитии философии. Решающее для опровержения этого взгляда сказано уже Гегелем, насколько это можно было сделать с идеалистической точки зрения. Добавочные материалистические соображения Фейербаха более остроумны, чем глубоки. Самое же решительное опровержение этих, как и всех прочих, философских вывертов заключается в практике, именно в эксперименте и в промышленности. Если мы можем доказать правильность нашего понимания данного явления природы тем, что сами его производим, вызываем его из его условий, заставляем его к тому же служить нашим целям, то кантовской неуловимой «вещи в себе» приходит конец. Химические вещества, образующиеся в телах животных и растений, оставались такими «вещами в себе», пока органическая химия не стала приготовлять их одно за другим; тем самым «вещь в себе» превращалась в вещь для нас, как например, ализарин, красящее вещество марены, которое мы теперь получаем не
из корней марены, выращиваемой в поле, а гораздо дешевле и проще из каменноугольного дегтя. Солнечная система Коперника в течение трехсот лет оставалась гипотезой в высшей степени вероятной, но все-таки гипотезой. Когда же Леверье на основании данных этой системы не только доказал, что должна существовать еще одна, неизвестная до тех пор, планета, но и определил посредством вычисления место, занимаемое ею в небесном пространстве, и когда после этого Галле действительно нашел эту планету 15, система Коперника была доказана. И если неокантианцы в Германии стараются воскресить взгляды Канта, а агностики в Англии — взгляды Юма (никогда не выми- равшие там), несмотря на то, что и теория и практика давно уже опровергли и те и другие, то в научном отноше- нии это является шагом назад, а на практике — лишь стыдливой манерой тайком протаскивать материализм, пу- блично отрекаясь от него.
Однако в продолжение этого длинного периода, от Де-карта до Гегеля и от Гоббса до Фейербаха, философов толкала вперед отнюдь не одна только сила чистого мып- ления, как они воображали. Напротив. В действителъности их толкало вперед главным образом мощное, все более быстрое и бурное развитие естествознания и промышлен- ности. У материалистов это прямо бросалось в глаза. Но и идеалистические системы все более и более наполнялись материалистическим содержанием и пытались пантеисти- чески примирить противоположность духа и материи. В гегелевской системе дело дошло, наконец, до того, что она и по методу и по содержанию представляет собой лишь идеалистически на голову поставленный материа-
лизм.
После всего сказанного понятно, почему Штарке в своей характеристике Фейербаха прежде всего исследует его позицию в этом основном вопросе — об отношении мышления к бытию. После краткого введения, в котором взгляды прежних философов, в особенности начиная с Канта, излагаются излишне тяжелым философским язы- ком и в котором Гегель не получает должной оценки, так как автор с чрезмерным формализмом цепляется за от- дельные места его сочинений, следует подробное изложе- ние хода развития самой фейербаховской «метафизики» как это развитие последовательно отражалось в относя- щихся сюда сочинениях этого философа. Это изложение

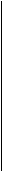
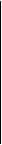
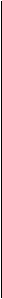 сделано старательно и отличается ясностью построения, только оно, как и вся книга Штарке, перегружено балластом философских выражений, употребление которых отнюдь не всегда неизбежно. Этот балласт является тем большей помехой, что автор не придерживается терминологии, принятой какой-нибудь одной школой или хотя бы самим Фейербахом, а перемешивает термины, принятые самыми различными направлениями, и преимущественно теми, которые именуют себя философскими и распространяются ныне подобно заразе.
сделано старательно и отличается ясностью построения, только оно, как и вся книга Штарке, перегружено балластом философских выражений, употребление которых отнюдь не всегда неизбежно. Этот балласт является тем большей помехой, что автор не придерживается терминологии, принятой какой-нибудь одной школой или хотя бы самим Фейербахом, а перемешивает термины, принятые самыми различными направлениями, и преимущественно теми, которые именуют себя философскими и распространяются ныне подобно заразе.
Ход развития Фейербаха есть ход развития гегельянца,— правда, вполне правоверным гегельянцем он не был никогда,— к материализму. На известной ступени это развитие привело его к полному разрыву с идеалистической системой своего предшественника. С неудержимой силой овладело им, наконец, сознание того, что гегелевское до-мщювое существование «абсолютной идеи», «предсущест-вование логических категорий» до возникновения мира есть не более, как фантастический остаток веры в потустороннего творца; что тот вещественный, чувственно воспринимаемый нами мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир и что наше сознание и мышление, как бы ни казались они сверхчувственными, являются продуктом вещественного, телесного органа — мозга. Материя не есть продукт духа, а дух есть лишь высший продукт материи. Это, разумеется, чистый материализм. Но, дойдя до этого, Фейербах вдруг останавливается. Он не может преодолеть обычного философского предрассудка, предрассудка не против самого существа дела, а против слова «материализм». Он говорит:
«Для меня материализм есть основа здания человеческой сущности и человеческого знания; но он для меня не то, чем он является для физиолога, для естествоиспытателя в тесном смысле, например для Молешотта, и чем он не может не быть для них сообразно их точке зрения и их специальности, то есть он для меня не само здание. Идя назад, я целиком с материалистами; идя вперед, я не с ними» 16.
Фейербах смешивает здесь материализм как общее мировоззрение, основанное на определенном понимании отношения материи и духа, с той особой формой, в которой выражалось это мировоззрение на определенной исторической ступени, именно в XVIII веке. Больше того, он смешивает его с той опошленной, вульгаризированной фор-
мой, в которой материализм XVIII века продолжает теперь существовать в головах естествоиспытателей и врачей и в которой его в 50-х годах преподносили странствующие проповедники Бюхнер, Фогт и Молешотт. Но материализм, подобно идеализму, прошел ряд ступеней развития. С каждым составляющим эпоху открытием даже в естественноисторической области материализм неизбежно должен изменять свою форму. А с тех пор, как и истории было дано материалистическое объяснение, здесь также открывается новый путь для развития материализма.
Материализм прошлого века был преимущественно механическим, потому что из всех естественных наук к тому времени достигла известной законченности только механика, и именно только механика твердых тел (земных и небесных), короче — механика тяжести. Химия существовала еще в наивной форме, основанной на теории флогистона. Биология была еще в пеленках: растительный и животный организм был исследован лишь в самых грубых чертах, его объясняли чисто механическими причинами. В глазах материалистов XVIII века человек был машиной так же, как животное в глазах Декарта. Это применение исключительно масштаба механики к процессам химического и органического характера,— в области которых механические законы хотя и продолжают действовать, но отступают на задний план перед другими, более высокими законами,— составляет первую своеобразную, но неизбежную тогда ограниченность классического французского материализма.
Вторая своеобразная ограниченность этого материализма заключалась в неспособности его понять мир как процесс, как такую материю, которая находится в непрерывном историческом развитии. Это соответствовало тогдашнему состоянию естествознания и связанному с ним метафизическому, то есть антидиалектическому, методу философского мышления. Природа находится в вечном движении; это знали и тогда. Но по тогдашнему представлению, это движение столь же вечно вращалось в одном и том же круге и таким образом оставалось, собственно, на том же месте: оно всегда приводило к одним и тем же последствиям. Такое представление было тогда неизбежно, Кантовская теория возникновения солнечной системы тогда только что появилась и казалась еще лишь простым курьезом. История развития Земли, геология, была еще
3 Ф. Энгельс
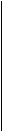

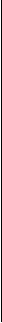 совершенно неизвестна, а мысль о том, что нынешние живые существа являются результатом продолжительного развития от простого к сложному, вообще еще не могла тогда быть выдвинута наукой. Неисторический взгляд на природу был, следовательно, неизбежен. И этот недостаток тем меньше можно поставить в вину философам XVIII века, что его не чужд даже Гегель. У Гегеля природа, как простое «отчуждение» идеи, не способна к развитию во времени; она может лишь развертывать свое многообразие в пространстве, и, таким образом, осужденная на вечное повторение одних и тех же процессов, она выставляет одновременно и одну рядом с другой все заключающиеся в ней ступени развития. И эту бессмыслицу развития в пространстве, но вне времени,— которое является основным условием всякого развития,— Гегель навязывал природе как раз в то время, когда уже достаточно были разработаны и геология, и эмбриология, и физиология растений и животных, и органическая химия, и когда на основе этих новых наук уже повсюду зарождались гениальные догадки, предвосхищавшие позднейшую теорию развития (например, Гёте и Ламарк). Но так повелевала система, и в угоду системе метод должен был изменить самому себе.
совершенно неизвестна, а мысль о том, что нынешние живые существа являются результатом продолжительного развития от простого к сложному, вообще еще не могла тогда быть выдвинута наукой. Неисторический взгляд на природу был, следовательно, неизбежен. И этот недостаток тем меньше можно поставить в вину философам XVIII века, что его не чужд даже Гегель. У Гегеля природа, как простое «отчуждение» идеи, не способна к развитию во времени; она может лишь развертывать свое многообразие в пространстве, и, таким образом, осужденная на вечное повторение одних и тех же процессов, она выставляет одновременно и одну рядом с другой все заключающиеся в ней ступени развития. И эту бессмыслицу развития в пространстве, но вне времени,— которое является основным условием всякого развития,— Гегель навязывал природе как раз в то время, когда уже достаточно были разработаны и геология, и эмбриология, и физиология растений и животных, и органическая химия, и когда на основе этих новых наук уже повсюду зарождались гениальные догадки, предвосхищавшие позднейшую теорию развития (например, Гёте и Ламарк). Но так повелевала система, и в угоду системе метод должен был изменить самому себе.
В области истории — то же отсутствие исторического взгляда на вещи. Здесь приковывала взор борьба с остатками средневековья. На средние века смотрели как на простой перерыв в ходе истории, вызванный тысячелетним всеобщим варварством. Никто не обращал внимания на большие успехи, сделанные в течение средних веков: расширение культурной области Европы, образование там в соседстве друг с другом великих жизнеспособных наций, наконец, огромные технические успехи XIV и XV веков. А тем самым становился невозможным правильный взгляд на великую историческую связь, и история в лучшем случае являлась готовым к услугам философов сборником примеров и иллюстраций.
Вульгаризаторы, взявшие на себя в пятидесятых годах в Германии роль разносчиков материализма, не вышли ни в чем за эти пределы учений своих учителей. Все дальнейшие успехи естественных наук служили им лишь новыми доводами против существования творца вселенной. Да они и не помышляли о том, чтобы развивать дальше теорию. Идеализм, премудрость которого к тому времени уже окон-
чательно истощилась и который был смертельно ранен революцией 1848 г., получил, таким образом, удовлетворение в том, что материализм в это время пал еще ниже. Фейербах был совершенно прав, отклоняя от себя всякую ответственность за этот материализм; он только не имел права смешивать учение странствующих проповедников с материализмом вообще.
Впрочем, здесь надо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, и при жизни Фейербаха естествознание находилось в том процессе сильнейшего брожения, который получил относительное, вносящее ясность завершение только за последние пятнадцать лет. Собрана была небывалая до сих пор масса нового материала для познания, но лишь в самое последнее время стало возможно установить связь, а стало быть, и порядок в этом хаосе стремительно нагромождавшихся открытий. Правда, Фейербах был современником трех важнейших открытий — открытия клетки, учения о превращении энергии и теории развития, названной по имени Дарвина. Но мог ли пребывавший в деревенском уединении философ в достаточной степени следить за наукой, чтобы в полной мере оценить такие открытия, которые тогда сами естествоиспытатели отчасти еще оспариьали, отчасти же не умели надлежащим образом использовать? Виноваты тут единственно жалкие немецкие порядки, благодаря которым философские кафедры замещались исключительно мудрствующими эклектическими крохоборами, между тем как Фейербах, бесконечно превосходивший всех их, вынужден был окрестьяниваться и прозябать в деревенском захолустье. Не Фейербах, следовательно, виноват в том, что ставший теперь возможным исторический взгляд на природу, устраняющий все односторонности французского материализма, остался для него недоступным.
Во-вторых, Фейербах был совершенно прав, когда говорил, что исключительно естественнонаучный материализм «составляет основу здания человеческого знания, но еще не самое здание». Ибо мы живем не только в природе, но и в человеческом обществе, которое не в меньшей мере, чем природа, имеет свою историю развития и свою науку. Задача, следовательно, состояла в том, чтобы согласовать науку об обществе, то есть всю совокупность так называемых исторических и философских наук, с материалистическим основанием и перестроить ее соответственно этому
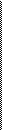

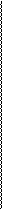
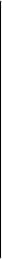 основанию. Но Фейербаху не суждено было сделать это. Здесь он, несмотря на «основу», еще не освободился от старых идеалистических пут, что признавал он сам, говоря: «Идя назад, я с материалистами; идя вперед, я не с ними». Но именно здесь, в области общественной, сам Фейербах «вперед», дальше своей точки зрения 1840 или 1844 г., и не пошел, и опять-таки главным образом вследствие своего отшельничества, в силу которого он, по своим наклонностям гораздо больше всех других философов нуждавшийся в обществе, вынужден был разрабатывать свои мысли в полном уединении, а не в дружеских или враждебных встречах с другими людьми своего калибра. Ниже мы подробнее рассмотрим, в какой большой степени он оставался идеалистом в указанной области.
основанию. Но Фейербаху не суждено было сделать это. Здесь он, несмотря на «основу», еще не освободился от старых идеалистических пут, что признавал он сам, говоря: «Идя назад, я с материалистами; идя вперед, я не с ними». Но именно здесь, в области общественной, сам Фейербах «вперед», дальше своей точки зрения 1840 или 1844 г., и не пошел, и опять-таки главным образом вследствие своего отшельничества, в силу которого он, по своим наклонностям гораздо больше всех других философов нуждавшийся в обществе, вынужден был разрабатывать свои мысли в полном уединении, а не в дружеских или враждебных встречах с другими людьми своего калибра. Ниже мы подробнее рассмотрим, в какой большой степени он оставался идеалистом в указанной области.
Заметим еще, что Штарке видит идеализм Фейербаха не в том, в чем он действительно заключается.
«Фейербах — идеалист; он верит в прогресс человечества» (стр. 19). «Основой, фундаментом всего остается все-таки идеализм. Реализм только предохраняет нас от заблуждений в то время, когда мы следуем своим идеальным стремлениям. Разве сострадание, любовь и служение истине и праву не идеальные силы?» (стр. VIII).
Во-первых, здесь идеализмом называется не что иное, как стремление к идеальным целям. Но эти цели необходимым образом связаны разве только с кантовским идеализмом и его «категорическим императивом». Однако даже Кант назвал свою философию «трансцендентальным идеализмом» вовсе не потому, что в ней речь идет и о нравственных идеалах, а по совершенно другим причинам, не безызвестным, конечно, Штарке. Предрассудок относительно того, что вера в нравственные, то есть общественные, идеалы составляет будто бы сущность философского идеализма, возник вне философии, у немецкого филистера, который подбирал потребные ему крохи философского образования в стихотворениях Шиллера. И никто не критиковал более резко бессильный кантовский «категорический императив» (бессильный потому, что требует невозможного, следовательно, никогда не приходит ни к чему действительному), никто не осмеивал более жестоко насажденную Шиллером филистерскую наклонность помечтать о неосуществимых идеалах (см., например, «Феноменологию» 17),— чем это делал законченный идеалист Гегель.
Во-вторых, никак не избегнуть того обстоятельства, что все, что побуждает человека к деятельности, должно проходить через его голову: даже за еду и питье человек принимается вследствие того, что в его голове отражаются ощущения голода и жажды, а перестает есть и пить вследствие того, что в его голове отражается ощущение сытости. Воздействия внешнего мира на человека запечатлеваются в его голове, отражаются в ней в виде чувств, мыслей, побуждений, проявлений воли, словом — в виде «идеальных стремлений», и в этом виде они становятся «идеальными силами». И если данного человека делает идеалистом только то обстоятельство, что он «следует идеальным стремлениям» и что он признает влияние на него «идеальных сил», то всякий мало-мальски нормально развитой человек — идеалист от природы, и непонятным остается одно: как вообще могут быть на свете материалисты?
В-третьих, убеждение в том, что человечество, по крайней мере в данное время, двигается в общем и целом вперед, не имеет абсолютно ничего общего с противоположностью материализма и идеализма. Французские материалисты почти фанатически держались этого убеждения — не меньше деистов 18 Вольтера и Руссо — и довольно часто приносили ему величайшие личные жертвы. Если кто-нибудь посвятил всю свою жизнь «служению истине и праву» — в хорошем смысле этих слов,— то таким человеком был, например, Дидро. И когда Штарке объявляет все это идеализмом, ои доказывает только то, что слово материализм, а с ним вместе и вся противоположность обоих направлений утратили здесь у него всякий смысл.
Фактически Штарке здесь делает,— хотя, может быть, и бессознательно,— непростительную уступку укоренившемуся под влиянием долголетней поповской клеветы филистерскому предрассудку против названия материализм. Под материализмом филистер понимает обжорство, пьянство, похоть, плотские наслаждения и тщеславие, корыстолюбие, скупость, алчность, погоню за барышом и биржевые плутни, короче — все те грязные пороки, которым он сам предается втайне. Идеализм же означает у неге веру в добродетель, любовь ко всему человечеству и вообще веру в «лучший мир», о котором он кричит перед другими, но в который он сам начинает веровать разве только тогда, когда у него голова болит с похмелья или когда он обанкротился, словом — когда ему приходится пережи-
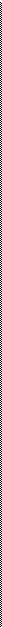
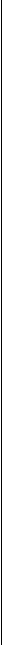
 вать неизбежные последствия своих обычных «материалистических» излишеств. При этом он тянет свою любимую песню: Что же такое человек? Он — полузверь и полуангел.
вать неизбежные последствия своих обычных «материалистических» излишеств. При этом он тянет свою любимую песню: Что же такое человек? Он — полузверь и полуангел.
В остальном же Штарке усердно старается защитить Фейербаха от нападений и учений тех доцентов, которые шумят теперь в Германии под именем философов. Для людей, интересующихся выродившимся потомством классической немецкой философии, это, конечно, важно; для самого Штарке это могло казаться необходимым. Но мы пощадим читателя.
III
Действительный идеализм Фейербаха выступает наружу тотчас же, как мы подходим к его философии религии и этике. Фейербах вовсе не хочет упразднить религию; он хочет усовершенствовать ее. Сама философия должна раствориться в религии.
«Периоды человечества отличаются один от другого лишь переменами в религии. Данное историческое движение только тогда достигает своей основы, когда оно глубоко проникает в сердце человека. Сердце — не форма религии, так что нельзя сказать, что религия должна быть также и в сердце; оно — сущность религии» 19 (цитировано у Штарке, стр. 168).
По учению Фейербаха, религия есть основанное на чувстве, сердечное отношение между человеком и человеком, которое до сих пор искало свою истину в фантастическом отражении действительности,— при посредстве одного или многих богов, этих фантастических отражений человеческих свойств,— а теперь непосредственно и прямо находит ее в любви между «я» и «ты». И таким образом, у Фейербаха, в конце концов, половая любовь становится одной из самых высших, если не самой высшей формой исповедания его новой религии.
Основанные на чувстве отношения между людьми, особенно же между людьми разного пола, существовали с тех самых пор, как существуют люди. Что касается половой любви, то она в течение последних восьми столетий приобрела такое значение и завоевала такое место, что стала обязательной осью, вокруг которой вращается вся поэзия. Существующие позитивные религии ограничиваются тем, что дают высшее освящение государственному регулиро-
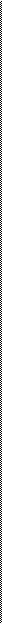
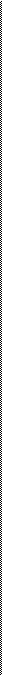
 ванию половой любви, то есть законодательству о браке; они могут все хоть завтра совершенно исчезнуть, а в практике любви и дружбы не произойдет ни малейшего изменения. Во Франции между 1793 и 1798 гг. христианская религия действительно исчезла до такой степени, что самому Наполеону не без сопротивления и не без труда удалось ввести ее снова. Однако в течение этого времени не возникло никакой потребности заменить ее чем-нибудь вроде новой религии Фейербаха.
ванию половой любви, то есть законодательству о браке; они могут все хоть завтра совершенно исчезнуть, а в практике любви и дружбы не произойдет ни малейшего изменения. Во Франции между 1793 и 1798 гг. христианская религия действительно исчезла до такой степени, что самому Наполеону не без сопротивления и не без труда удалось ввести ее снова. Однако в течение этого времени не возникло никакой потребности заменить ее чем-нибудь вроде новой религии Фейербаха.
Идеализм Фейербаха состоит здесь в том, что он все основанные на взаимной склонности отношения людей — половую любовь, дружбу, сострадание, самопожертвование и т. д.— не берет просто-напросто в том значении, какое они имеют сами по себе, вне зависимости от воспоминаний о какой-нибудь особой религии, которая и по его мнению принадлежит прошлому. Он утверждает, что полное свое значение эти отношения получат только тогда, когда их освятят словом религия. Главное для него не в том, что такие чисто человеческие отношения существуют, а в том, чтобы их рассматривали как новую, истинную религию. Он соглашается признать их полноценными только в том случае, если к ним будет приложена печать религии. Слово религия происходит от ге1igare * и его первоначальное значение — связь. Следовательно, всякая взаимная связь двух людей есть религия. Подобные этимологические фокусы представляют собой последнюю лазейку идеалистической философии. Словам приписывается не то значение, какое они получили путем исторического развития их действительного употребления, а то, какое они должны были бы иметь в силу своего происхождения. Только для того, чтобы не исчезло из языка дорогое для идеалистических воспоминаний слово религия, в сан «религии» возводятся половая любовь и отношения между полами. Совершенно так же рассуждали в сороковых годах парижские реформисты направления Луи Блана, которым тоже человек без религии представлялся каким-то чудовищем и которые говорили нам: Donc, l atheisme c est votre religion!** Стремление Фейербаха построить истинную религию на основе материалистического по сути дела понимания природы можно уподобить попытке толковать современную химию
* — связывать. Ред. ** — Стало быть, атеизм это и есть ваша религия! Ред.
как истинную алхимию. Если возможна религия без бога,
то возможна и алхимия без своего философского камня.
К тому же существует очень тесная связь между алхимией
и религией. Философский камень обладает многими бо-гоподобными свойствами, и египетско-греческие алхимики первых двух столетий нашего летосчисления тоже приложили свою руку при выработке христианского учения, как это показывают данные, приводимые Коппом и Бертло.
Совершенно неверным является утверждение Фейербаха, что «периоды человечества отличаются один от другого лишь переменами в религии». Великие исторические повороты сопровождались переменами в религии лишь поскольку речь идет о трех доныне существовавших мировых религиях: буддизме, христианстве, исламе. Старые стихийно возникшие племенные и национальные религии не имели пропагандистского характера и лишались всякой силы сопротивления, как только бывала сломлена независимость данных племен или народов. У германцев для этого достаточно было даже простого соприкосновения с разлагавшейся римской мировой империей и с ее христианской мировой религией, тогда только что принятой Римом и соответствовавшей его экономическому, политическому и духовному состоянию. Только по поводу этих, более или менее искусственно возникших мировых религий особенно по поводу христианства и ислама, можно сказать что общие исторические движения принимают религиозную окраску. Но даже в сфере распространения христиан ства революции, имевшие действительно универсальное значение, принимают эту окраску лишь на первых ступенях борьбы буржуазии за свое освобождение, от XIII до XVII века включительно. И это объясняется не свойствами человеческого сердца и не религиозной потребностью чело- века, как думает Фейербах, но всей предыдущей историей средних веков, знавших только одну форму идеологии: ре- лигию и теологию. Нокогда в XVIII веке буржуазия достаточно окрепла для того, чтобы создать свою собствен- ную идеологию, соответствующую ее классовому положе- нию, она совершила свою великую и законченную рево- люцию — французскую, апеллируя исключительно к юри- дическим и политическим идеям и думая о религии лишь постольку, поскольку эта последняя преграждала ей дорогу. Но при этом ей и в голову не приходило, что надо заменить
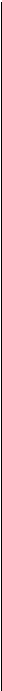
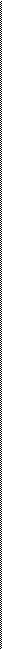 старую религию какой-то новой. Известно, какую неудачу потерпел здесь Робеспьер.
старую религию какой-то новой. Известно, какую неудачу потерпел здесь Робеспьер.
В обществе, в котором мы вынуждены жить теперь и которое основано на противоположности классов и на классовом господстве, возможность проявления чисто человеческих чувств в отношениях к другим людям и без того достаточно жалка; у нас нет ни малейшего основания делать ее еще более жалкой, возводя эти чувства в сан религии. Точно так же ходячая историография уже достаточно затемнила нам, особенно в Германии, понимание великих исторических классовых битв, и нам нет надобности делать его совершенно невозможным, превращая историю этой борьбы в простой придаток истории церкви. Уже из этого видно, как далеко ушли мы теперь от Фейербаха. Теперь просто невозможно больше читать те «прекраснейшие места» его сочинений, в которых превозносится эта новая религия любви.
Фейербах серьезно исследует только одну религию — христианство, эту основанную на монотеизме мировую религию Запада. Он показывает, что христианский бог есть лишь фантастическое отражение человека. Но этот бог, в свою очередь, является продуктом длительного процесса абстрагирования, концентрированной квинтэссенцией множества прежних племенных и национальных богов. Соответственно этому и человек, отражением которого является этот бог, представляет собой не действительного человека, а подобную же квинтэссенцию множества действительных людей; это — абстрактный человек, то есть опять-таки только мысленный образ. И тот же самый Фейербах, который на каждой странице проповедует чувственность и погружение в конкретный, действительный мир, становится крайне абстрактным, как только ему приходится говорить не только о половых, а о каких-либо других отношениях между людьми.
В этих отношениях он видит только одну сторону — мораль. И здесь нас опять поражает удивительная бедность Фейербаха в сравнении с Гегелем. У Гегеля этика, или учение о нравственности, есть философия права и охватывает: 1) абстрактное право, 2} мораль, 3) нравственность, к которой, в свою очередь, относятся: семья, гражданское общество, государство. Насколько идеалистична здесь форма, настолько же реалистично содержание. Наряду с моралью оно заключает в себе всю область
права, экономики и политики. У Фейербаха — как раз наоборот. По форме он реалистичен, за точку отправления он берет человека; но о мире, в котором живет этот человек, у него нет и речи, и потому его человек остается постоянно тем же абстрактным человеком, который фигурирует в философии религии. Этот человек появился на свет не из чрева матери: он, как бабочка из куколки, вылетел из бога монотеистических религий. Поэтому он и живет не в действительном, исторически развившемся и исторически определенном мире. Хотя он находится в общении с другими людьми, но каждый из них столь же абстрактен, как и он сам. В философии религии мы все-таки еще имели дело с мужчиной и женщиной, но в этике исчезает и это последнее различие. Правда, у Фейербаха попадаются изредка такие, например, положения:
«Во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах» 20.— «Если у тебя от голода и по бедности нет питательных веществ в теле, то и в голове твоей, в твоих чувствах и в твоем сердце нет пищи для морали» 21.— «Политика должна стать нашей религией» п и т. д.
Но он совершенно не знает, что делать с этими положениями, они остаются у него голой фразой, и даже Штарке вынужден признать, что политика для Фейербаха недоступная область, а
«наука об обществе, социология,— terra incognita» 23.
Столь же плоским является он по сравнению с Гегелем и там, где рассматривает противоположность между добром и злом.
«Некоторые думают,— замечает Гегель,— что они высказывают чрезвычайно глубокую мысль, говоря: человек по своей природе добр; но они забывают, что гораздо большеглубокомыслия в словах: человек по своей природе зол ».
У Гегеля зло есть форма, в которой проявляется движущая сила исторического развития. И в этом заключается двоякий смысл. С одной стороны, каждый новый шаг вперед необходимо является оскорблением какой-нибудь святыни, бунтом против старого, отживающего, но освященного привычкой порядка. С другой стороны, с тех пор как возникла противоположность классов, рычагами исторического развития сделались дурные страсти людей: жад-
* — неизвестная земля. Ред.
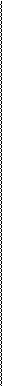
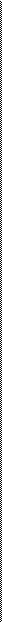

 ность и властолюбие. Непрерывным доказательством этого
ность и властолюбие. Непрерывным доказательством этого
служит, например, история феодализма и буржуазии. Но
Фейербаху и в голову не приходит исследовать историчес-
скую роль морального зла. Историческая область для него
вообще неудобна и неуютна. Даже его изречение:
«Когда человек только что вышел из лона природы, он тоже был лишь чисто природным существом, а не человеком. Человек,— это продукт человека, культуры, истории» 25,—
даже это изречение остается у него совершенно бесплодным.
После всего сказанного понятно, что насчет морали Фейербах может сообщить нам лишь нечто чрезвычайно тощее. Стремление к счастью прирождено человеку, поэтому оно должно быть основой всякой морали. Но стремление к счастью подвергается двоякой поправке. Во-первых, со стороны естественных последствий наших поступков: за опьянением следует похмелье, за вошедшим в привычку излишеством — болезнь. Во-вторых, со стороны их общественных последствий: если мы не уважаем в других того же стремления к счастью, они оказывают сопротивление и мешают нашему стремлению к счастью. Отсюда следует, что если мы хотим удовлетворить это свое стремление, мы должны уметь правильно оценивать последствия наших поступков и, кроме того, уважать равное право других на то же самое стремление. Разумное самоограничение в отношении самих себя и любовь — снова любовь! — в общении с другими — таковы, стало быть, основные правила фейербаховской морали, из которых выводятся все остальные. И ни остроумнейшие рассуждения Фейербаха, ни самые усиленные похвалы Штарке не в состоянии скрыть убожество и пустоту этих двух-трех положений.
Занимаясь самим собой, человек только в очень редких случаях, и отнюдь не с пользой для себя и для других, удовлетворяет свое стремление к счастью. Он должен иметь общение с внешним миром, средства для удовлетворения своих потребностей: пищу, индивида другого пола, книги, развлечения, споры, деятельность, предметы потребления и труда. Одно из двух: или фейербаховская мораль заранее предполагает, что все эти средства и предметы для удовлетворения потребностей несомненно имеются у каждого человека, или она дает только благие,
но неприменимые советы, и тогда она не стоит выеденного яйца для людей, лишенных этих средств. И сам Фейербах прямо говорит об этом:
«Во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах». «Если у тебя от голода и по бедности нет питательных веществ в теле, то и в голове твоей, в твоих чувствах и в твоем сердце нет пищи для морали».
Лучше ли обстоит дело с равным правом всех людей на счастье? Фейербах выставляет это требование как безусловно обязательное во все времена и при всяких обстоятельствах. Но с каких пор оно признано всеми? Заходила ли догда-нибудь в древности между рабами и их владельцами или в средние века между крепостными крестьянами и их баронами речь о равном праве всех людей на счастье? Разве стремление угнетенны
Date: 2015-09-18; view: 283; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |