
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?

Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Гармонический человек 3 page
На собрании труппы, проходившем в артистическом фойе, режиссер, согласно договоренности, небрежно представил Фандорина как претендента на место «драмотборщика», то есть заведующего литературной частью. Штерн сказал, что должность эта в театре почитается маловажной и артисты не будут рисоваться перед столь незначительной фигурой. Так и вышло. В первый момент все с любопытством уставились на элегантного господина картинной внешности (седые с легкой прочернью волосы на косой пробор, ухоженные черные усики), но, услышав, кто это, скоро перестали обращать на него внимание. Эраста Петровича такое положение устраивало. Он скромненько сел в дальний угол и начал приглядываться — ко всем кроме Альтаирской. Фандорин остро ощущал ее присутствие (она сидела напротив и чуть наискось), словно из той части комнаты струилось мерцающее сияние, но всматриваться в него не решался, опасаясь, что все остальное помещение погрузится в сумерки и тогда нельзя будет работать. Эраст Петрович пообещал себе, что вдоволь наглядится на нее потом, когда изучит остальных. Вначале Ной Ноевич произнес энергичный спич, поздравив труппу с колоссальным успехом «Бедной Лизы» и посетовав, что из-за «известного происшествия» не получилось, как заведено, произвести разбор спектакля сразу по его завершении. — Напомню вчерашний уговор: эту пакостную историю мы обсуждать не станем. Расследование будет произведено, а виновный изобличен и наказан, слово Ноя Штерна. — Короткий многозначительный взгляд в сторону Фандорина. — Но такого крика и восточного базара, как вчера вечером, больше не будет. Ясно? С той стороны, где колыхался переливчатый свет, донесся нежный голос, который Эрасту Петровичу так хотелось услышать вновь. — Только одно, если позволите, Ной Ноевич. Вчера я была не в состоянии как следует поблагодарить дорогого Георгия Ивановича за его отвагу. Он, рискуя жизнью, кинулся мне на помощь! Я… я не знаю, что бы со мною… Если бы эта мерзость меня не то что укусила, а просто прикоснулась… — Раздалось сдавленное рыдание, от которого у Фандорина защемило сердце. — Георгий Иванович, вы — последний рыцарь нашего времени! Можно я вас поцелую? Все зааплодировали, и Эраст Петрович позволил себе первый раз, мельком, взглянуть на примадонну. Она была в светлом платье, перехваченном на поясе широким бордовым шарфом, в легкой широкополой шляпе с перьями. Лица было не видно, потому что Альтаирская стояла вполоборота к невысокому, бледному человеку с рукой на перевязи. Его высокий лоб с прилизанными лермонтовскими височками блестел испариной, круглые карие глаза смотрели на Элизу с обожанием. — Благодарю… То есть, я хотел сказать, не за что, — пролепетал Девяткин, когда она, сняв шляпу, коснулась его щеки губами. И вдруг залился румянцем. — Браво! — вскочила и звонко крикнула, не переставая хлопать в ладоши, маленькая барышня с забавным курносым личиком, покрытым конопушками (Фандорин про себя окрестил ее Пигалицей). — Милый Жорж, вы как святой Георгий, победивший змия! Я тоже хочу вас поцеловать! И пожать вашу бедную руку! Она бросилась к сконфуженному герою, приподнялась на цыпочки и обняла его, но поцелуи Пигалицы помощник режиссера воспринял с меньшим удовольствием. — Не стискивайте так, Зоенька, больно! У вас пальцы костлявые. — «Так вот где таилась погибель моя, мне смертию кость угрожала. Из мертвой главы гробовая змея шипя между тем выползала», — насмешливо продекламировал умопомрачительный мужчина в белом костюме с алой гвоздикой в петлице. Это, конечно, был премьер Смарагдов, вблизи еще более красивый, чем на сцене. Эраст Петрович осторожно глянул на Элизу, чтобы посмотреть, какова она без шляпы. Но примадонна поправляла прическу, и видно было лишь, что ее дымчатые волосы подняты вверх и стянуты каким-то не то очень простым, не то, наоборот, невероятно мудреным узлом, придающим силуэту нечто египетское. — Вынужден прервать эту трогательную сцену. Хватит восторгаться и лобызаться, уже без одной минуты четыре, — сказал режиссер, помахивая вынутыми из кармашка часами. — Дамы и господа, у нас сегодня очень важное событие. Перед тем как мы приступим к разбору новой пьесы, с вами пожелал встретиться наш благодетель и добрый ангел, Андрей Гордеевич Шустров. Все встрепенулись, некоторые из женщины даже вскрикнули. Штерн улыбался. — Да-да. Он хочет познакомиться со всеми. До сих пор только я и Элиза имели удовольствие общаться с этим замечательным меценатом, без которого наш «Ковчег» так и не пустился бы в плавание. Но мы в Москве, и господин Шустров выделил время, чтобы поприветствовать всех вас лично. Он обещался быть в четыре, а этот человек никогда не опаздывает. — Негодяй, не могли предупредить? Я бы надела свое муаровое платье и жемчуг, — густым контральто посетовала полная, когда-то, верно, очень красивая дама царственной наружности. — Шустров для вас молод, душа моя Василиса Прокофьевна, — сказал ей представительный мужчина с чудесными голубоватыми сединами. — Ему, я чай, тридцати нет. Жемчугами да муарами вы его не заштечете. Дама парировала, не повернув головы: — Старый шут! В дверь деликатно постучали. — Я ведь говорил: невиданная пунктуальность! — снова помахал часами Ной Ноевич и кинулся открывать. О предстоящем визите предпринимателя Фандорин был предупрежден. Режиссер сказал, что это отличный способ познакомиться с труппой — он как раз будет представлять меценату всех актеров. Хозяин «Театрально-кинематографической компании» был мало похож на промышленного деятеля, во всяком случае русского. Молод, худощав, неброско одет, скуп на слова. Самой интересной чертой в этом, по первому впечатлению, малопримечательном субъекте Фандорину показалась какая-то особенная сосредоточенность взгляда и общее ощущение чрезвычайной серьезности. Казалось, человек этот никогда не шутит, не улыбается, не ведет пустых разговоров. Обычно Эрасту Петровичу подобные люди импонировали, но Шустров ему не понравился. Пока Штерн произносил приветственную речь — напыщенную, с всегдашними актерскими преувеличениями («достопочтеннейший благодетель», «просвещенный покровитель муз», «опекун искусств и духовности», «образец безупречного вкуса» и прочее), капиталист молчал, спокойно оглядывая труппу. Остановил взор на Альтаирской-Луантэн и больше уже ни на кого не отвлекался. С этого-то момента Фандорин и начал испытывать к «образцу вкуса» активную неприязнь. Покосился на примадонну — что она? Улыбается, ласково. Тоже не сводит с Шустрова глаз. И хотя это было вроде бы естественно — на молодого человека с лучезарными улыбками смотрели все члены труппы, Эраст Петрович помрачнел. Мог хотя бы запротестовать против комплиментов, изобразить скромность, зло подумал Фандорин. Но, по правде говоря, актерам «Ноева ковчега» было за что благодарить Андрея Гордеевича. Он не только оплатил переезд из Петербурга в Москву и предоставил для гастролей прекрасно оснащенный театр. Как можно было заключить из речи Штерна, к услугам труппы оказался полный штат музыкантов и служителей, гримеров и костюмерш, осветителей и рабочих, со всем необходимым реквизитом, с портняжным и бутафорским цехами, где опытные мастера могли быстро изготовить любой костюм или декорацию. Вряд ли какая-то другая труппа, включая императорские, когда-либо существовала в столь оранжерейных условиях. — Мы живем здесь у вас, как в волшебном замке! — восклицал Ной Ноевич. — Достаточно высказать пожелание, просто хлопнуть в ладоши — и мечта осуществляется. Лишь в таких идеальных условиях можно творить искусство, не отвлекаясь на унизительные и скучные хлопоты о том, как свести концы с концами. Поприветствуем же нашего ангела-хранителя, друзья! Под аплодисменты и горячие возгласы, к которым не присоединился один лишь Фандорин, господин Шустров слегка поклонился — и только. После этого началось представление актеров. Прежде всего Штерн подвел высокого гостя к примадонне. «Теперь можно», — сказал себе Фандорин и наконец позволил себе целиком сконцентрироваться на женщине, из-за которой второй день пребывал в необъяснимом волнении. Сегодня он знал про нее гораздо больше, чем вчера. Возраст — под тридцать. Из актерской семьи. Окончила театральное училище по классу балета, но пошла по драматической линии, благодаря сценическому голосу удивительной глубины и нежнейшего тембра. Играла в театрах обеих столиц, несколько сезонов назад блистала в Художественном. Злые языки утверждают, что ушла, не желая быть на равных с другими сильными актрисами, которых там слишком много. Перед тем как стать примой «Ноева ковчега», Альтаирская-Луантэн имела огромный успех в Петербурге с концертами в модном жанре мелодекламации. Это имя уже не казалось Эрасту Петровичу чрезмерно претенциозным. Оно ей шло: далекая, как звезда Аль-Таир… В самом начале своей карьеры она ярко сыграла принцессу Грезу в одноименной ростановской пьесе — отсюда «Луантэн» (во французском оригинале принцессу Грёзу ведь зовут Princesse Lointaine, Далекая Принцесса). Вторая часть псевдонима, подчеркивающая недосягаемую отдаленность, появилась недавно, после короткого замужества. Газеты писали о нем как-то смутно. Муж актрисы был восточным князем, чуть ли не полувладетельным ханом, и в некоторых статьях Элизу даже именовали «ханшей». Что ж, глядя на нее, Фандорин готов был поверить чему угодно. Такая могла быть и принцессой, и ханшей. Хоть он долго готовился, прежде чем как следует рассмотреть ее вблизи, это не очень-то смягчило удар. В бинокль Эраст Петрович видел ее загримированной, да еще в роли простой, наивной деревенской девушки. В жизни же, в естественном своем состоянии, Элиза была совсем иная — не по сравнению со сценическим образом, а просто иная, не похожая на других женщин, единственная… Фандорин затруднился бы объяснить, как именно расшифровать эту мысль, заставившую его крепко взяться за поручни кресла — потому что неудержимо захотелось встать и подойти ближе, чтобы смотреть на нее в упор, жадно, неотрывно. Что в ней такого особенного, спросил он себя, как обычно пытаясь рационализировать иррациональное. Откуда ощущение невиданной, магнетизирующей красоты? Он попробовал судить беспристрастно. Ведь, строго говоря, не красавица. Черты, пожалуй, мелковаты. Стати неклассические: угловатая фигура, острые плечи. Рот тонкогубый, слишком широкий. Нос с небольшой горбинкой. Но все эти неправильности не ослабляли, а только усиливали впечатление чуда. Кажется, что-то с глазами, главное в них, определил Эраст Петрович. Некая странная неуловимость, вынуждающая ловить ее взгляд, чтобы разгадать его тайну. Он вроде бы и обращен на тебя, но как-то по касательной, словно не видит. Либо видит вовсе не то, что показывают. Наблюдательности Фандорину было не занимать. Даже в нынешнем своем состоянии, безусловно ненормальном, тайну он быстро вычислил. Госпожа Альтаирская слегка косила, вот и вся неуловимость. Но тут же возникла новая загадка — ее улыбка. Вернее, полуулыбка или недоулыбка, почти не сходившая с ее уст. Видимо, волшебство именно в этом, выдвинул новую версию Эраст Петрович. Эта женщина словно находится в постоянном предвкушении счастья — смотрит, будто спрашивает: «Вы тот, кого я жду? Вы и есть мое счастье?» А еще в удивительной улыбке читалось некое смущение. Как если бы Элиза дарила себя миру и сама немного стеснялась щедрости подарка. В целом же следовало признать, что до конца секрет притягательности примадонны Фандорин так и не разгадал. Он еще долго разглядывал бы ее, но Шустрова уже подвели к соседу, и Эраст Петрович с неохотой перевел взгляд на Ипполита Смарагдова. Вот это была красота, над которой ломать голову не приходилось. Строен, широкоплеч, высок, с идеальным пробором, ясным взором, ослепительной улыбкой, превосходнейшим баритоном. Заглядение, сущий Антиной. Газеты пишут, что за ним из Петербурга приехало чуть не полсотни влюбленных театралок, не пропускающих ни одного его выхода и осыпающих своего кумира цветами. Штерн переманил его из Александринки на какое-то неслыханное жапованье, чуть ли не тысяча в месяц. — Вы превосходно сыграли Гамлета и Вершинина. Карамзинский Эраст вам тоже удался, — сказал, пожимая руку, меценат. — Но главное — у вас чрезвычайно удачная внешность. Ее можно рассматривать вблизи. Это важно. Манера говорить у миллионера была особенная — чувствовалось, что комплиментов этот человек расточать не станет. Что на самом деле думает, то и сказал. И не слишком озаботился, понятен ли его ход мыслей собеседнику. С очаровательной улыбкой премьер ответил: — Сказал бы: «Смотрите-смотрите, за погляд денег не берут», но с вас грех не запросить. В этой связи желал бы знать, нельзя ли все-таки получить в конце сезона бенефисец? — Нельзя! — отрезал Ной Ноевич. — В уставе «Ковчега» ясно сказано: бенефисов ни у кого не будет. — И у вашей фаворитки? — качнул головой в сторону Элизы красавец, при этом обращаясь к Шустрову. Каков наглец, нахмурился Фандорин. Неужто никто не поставит его на место? И в каком смысле про фаворитку? — Ипполит, заткнись. Ты всем надоел, — громко сказала дама, давеча переживавшая из-за муарового платья. — А это Василиса Прокофьевна Регинина, наша «гранд-дама», — подвел к ней мецената Штерн. — Гениально сыграла королеву Гертруду, все рецензенты отметили. — Назвали «неувядающей», — подхватил сосед «гранд-дамы» — тот, что с голубоватыми сединами. Под приглушенное хихиканье монументальная Василиса Прокофьевна метнула изничтожающий взгляд на шутника. — Голос с того света, — процедила она. — Покойникам надлежит молчать. Смешки стали громче. Отношения внутри труппы непросты, атмосфера перенасыщена электричеством, констатировал Эраст Петрович. Регинина вскинула полный подбородок: — Нет худшей беды для актрисы, чем слишком долго цепляться за амплуа героини. Нужно уметь вовремя перейти из одного женского возраста в другой. Я буду вечно благодарна Ною Ноевичу за то, что он уговорил меня покончить с Дездемонами, Корделиями и Джульеттами. Господи, какое освобождение не молодиться, не впадать в истерику из-за каждой новой морщинки! Теперь я могу хоть до самой смерти спокойно играть Екатерин Великих и Кабаних. Ем пирожные, набрала сорок фунтов и нисколько не мучаюсь! Сказано это было с истинным величием. Штерн воскликнул: — Королева! Истинно regina! Угрызайтесь, голубчик, что упустили свое счастье, — с укором молвил он седовласому. — Это наш «резонер» Лев Спиридонович Разумовский, мудрейший человек, хоть и бывает колок. В прошлом первый любовник. И, кажется, не только по сцене, а, Лев Спиридонович? Откройте наконец тайну, из-за чего вы развелись с Василисой Прокофьевной? Почему она называет вас «мертвецом» и «покойником»? Заметив среди актеров оживление, Фандорин догадался, что эта тема в театре пользуется популярностью, и удивился: не странно ли — держать в небольшой труппе бывших супругов, которые к тому же не сумели сохранить добрых отношений? — Василиса зовет меня так, потому что я для нее умер, — с кроткой печалью ответил «резонер». — Я действительно совершил чудовищную вещь, которой нет прощенья. Не то чтобы я о нем, впрочем, умолял… А подробности пусть останутся между нами. — Труп. Живой труп, — скривила губы Регинина, употребив название пьесы, о которой в этом сезоне говорила вся Россия. Шустров вдруг оживился. — Вот именно, — сказал он. — «Живой труп» — отличный пример того, как театр с кинематографом поддерживают и рекламируют друг друга. После графа Толстого осталась неопубликованная пьеса, ее текст таинственным образом попадает к моему конкуренту Перскому, и тот уже начал снимать фильму, не дожидаясь выхода спектакля! Содержание никому неизвестно, машинописные копии выкрадываются, перепродаются по триста рублей! Семья покойного подает в суд! Представляю, как публика будет рваться и в кинематографы, и в театры! Отличная композиция! Мы с вами об этом поговорим позднее. Он успокоился так же внезапно, как возбудился. Все смотрели на предпринимателя с почтительным недоумением. — Мой помощник Девяткин, — показал Ной Ноевич на укушенного. — А также актер без амплуа, так называемый «содействующий». Его история в некотором роде уникальна. Вырос в кадетском корпусе, служил в саперном батальоне где-то в Бешбармаке… — На Мангышлаке, — поправил Девяткин. — В общем, в жуткой дыре, где главный культурный аттракцион — свиной рынок. Второй режиссер опять поправил: — Не свиной — конный. Свиней там не разводят, это мусульманские земли. 
— И вдруг заезжает к ним на гастроли какой-то театришко. Дрянной, но с классическим репертуаром. Наш поручик сражен, влюблен, околдован! Бросает службу, поступает на сцену под романтическим псевдонимом, кошмарно играет в кошмарных постановках. А потом новое чудо. Проездом в Петербурге попадает на мой спектакль и наконец понимает, что такое настоящий театр. Приходит ко мне, умоляет взять кем угодно. Я разбираюсь в людях — это моя профессия. Взял помощником и ни разу о том не пожалел. А вчера Девяткин проявил себя героем. Нуда вы, Андрей Гордеевич, конечно, знаете. 
Знаю. — Шустров крепко пожал ассистенту левую, не забинтованную руку. — Вы молодец. Спасли всех нас от больших убытков. У Эраста Петровича приподнялась левая бровь, а настроение вдруг улучшилось. Если для мецената здоровье Элизы — всего лишь вопрос «убытков», то… Это совсем другое дело. — Я сделал это не из-за ваших убытков, — пробормотал Девяткин, но гостя уже знакомили со следующим артистом. — Костя Ловчилин. Как следует из псевдонима — актер на роли ловчил и плутов, — представил Штерн молодого человека с невероятно живой физиономией. — Играл Труффальдино, Лепорелло, Скапена. Тот провел рукой по буйным кудрявым волосам, оскалил толстогубый рот и шутовски поклонился: — К услугам вашего сиятельства. — Смешное лицо, — одобрительно заметил Шустров. — Я заказывал провести исследование. Публика любит комиков почти так же, как роковых женщин. — Наше дело лакейское. Кого прикажете, того и сыграем. Угодно роковую женщину? Рад стараться! — по-солдатски отсалютовал Ловчилин и тут же очень похоже изобразил Альтаирскую: затуманил взор, изящно переплел руки и даже полуулыбку воспроизвел. Все актеры, даже сама Луантэн, засмеялись. Не развеселились только двое: Шустров, который с серьезным видом покивал головой, да Фандорин — ему кривлянье показалось неприятным. — А вот наша «субретка», Серафимочка Клубникина. Я ее увидел Сюзанной в «Женитьбе Фигаро» и сразу пригласил в труппу. Хорошенькая пухлая блондинка присела в быстром книксене. — А правду говорят, что вы холостой? — спросила она — чертики в глазах так и запрыгали. — Да, но скоро собираюсь жениться, — ровно ответил Шустров, не откликаясь на заигрывание. — Пора уже. Возраст. Долговязая дама с костлявым лицом, скривив огромный рот, сказала громким сценическим шепотом (как пишут драматурги, «в сторону»): — Отбой, Сима. Не по наживке рыба. — Ксантиппа Петровна Лисицкая — «злодейка», — протянул в ее сторону длань режиссер. — Так сказать, лиса-интриганка. Раньше выступала в комическом амплуа, не слишком успешно. Но я открыл ее истинное призвание. Была у меня отменной леди Макбет, и в «Трех сестрах» очень хороша. Ее Наталья заставляет публику прямо-таки кипеть от ненависти. — Жанр детской сказки тоже очень перспективен, — заметил на это Шустров, следуя какой-то своей внутренней логике. Впрочем, он объяснил: — Снежная королева из вас может получиться. Страшная, малыши плакать будут. — Мерси, — поблагодарила «злодейка» и церемонно провела рукой по волосам — будто нарочно зачесанным так туго, чтобы выставить несоразмерно большие уши. — Ой, слышите? Она показала на окно. Там дружно что-то кричали женские голоса. «Сма-ра-гдов! Сма-ра-гдов!», разобрал Эраст Петрович. Должно быть, поклонницы — надеются, что их идол выглянет в окно. — Что они кричат? — Лисицкая сделала вид, будто прислушивается. — «Ме-фи-стов»? Ей-богу, «Мефистов»! — И в радостном волнении повернулась к соседу. — Антон Иванович, московская публика оценила ваш талант! Ах, вы фантастически исполнили роль шулера! Фандорин удивился — ослышаться было невозможно. Тот, к кому обратилась злодейка-интриганка, носатый брюнете изломанными кустистыми бровями, сардонически ухмыльнулся. — Если бы популярность определялась талантом, а не внешностью, — он метнул недобрый взгляд на Смарагдова, — то и меня караулили бы у подъезда. Однако как гениально ни сыграй Яго или Клавдия, цветами не осыпят. Эти удовольствия для бездарей со смазливой мордашкой. С улыбкой прислушиваясь к крикам, премьер лениво протянул: — Антон Иваныч, я знаю, вы начинаете входить в роль злодея прямо с утра, но сегодня спектакля нет, так что возвращайтесь в мир пристойных людей. Или это уже невозможно? — Умоляю, не ссорьтесь! — преувеличенно расстроилась Лисицкая. — Это я виновата! Неправильно расслышала, вот Антоша и обиделся… — Не расслышали? С вашими-то ушами? — съязвил Смарагдов. «Злодейка» вспыхнула — стало быть, все-таки страдает из-за некрасивости, определил Эраст Петрович. — Товарищи! Друзья! — Со стула поднялся круглолицый человек в кургузом пиджаке. — Ну перестаньте, право! Вечно мы ругаемся, вонзаем друг в друга шпильки, а зачем? Ведь театр — это такое хорошее, доброе, красивое дело! Если не любить друг друга, если все время тянуть одеяло на себя, оно разорвется! — Вот суждение человека, которому нельзя заниматься режиссурой, — сказал на это Штерн, кладя круглолицему руку на плечо. — Сядь, Вася. А вы все угомонитесь. Видите, Андрей Гордеевич, в каком сумасшедшем доме я работаю? Так, кто у нас остался? Ну, это, как вы догадались, наш «злодей» Антон Иванович Мефистов, — довольно небрежно махнул он на брюнета. Ткнул пальцем в круглолицего. — Это Васенька — наш «простак», поэтому и псевдоним ему Простаков. К данному амплуа относятся роли верных соратников и симпатичных недотеп. В «Трех сестрах» он был Тузенбах, в «Гамлете» — Гораций… Вот и вся труппа. — А Зоя? — раздался укоризненный голос Альтаирской. Эраст Петрович не слышал его всего несколько минут, а уже по нему соскучился. — Меня всегда забывают. Как малозначительную деталь. Веснушчатая барышня, которая целовата героя Девяткина и от чувств сжала ему больную руку, произнесла эти слова с наигранной веселостью. Она была очень мала ростом — побалтывала не достающими до пола ногами. — Виноват, Зоенька! Меа culpa! — Штерн ударил себя кулаком в грудь. — Это наша чудесная Зоенька Дурова. Амплуа — «дура», то есть шутиха. Великолепный талант гротеска, пародии, дуракаваляния, — распинался он, очевидно, желая компенсировать свою промашку. — А еще она — несравненная травести. Играет хоть мальчиков, хоть девочек. Представьте себе, я похитил ее из цирка лилипутов. Она там препотешно представляла обезьяну. Шустров поглядел на маленькую женщину без интереса и стал смотреть на Фандорина. — У лилипутов я считалась переростком, а тут я недоросток. — Дурова взяла миллионера за рукав, чтобы он снова к ней обернулся. — Такая судьба — меня вечно или слишком много, или слишком мало. — Она скорчила ж&постную рожицу. — Зато я умею то, чего никто больше не умеет. У меня редкий слезный дар. Могу плакать не только двумя глазами, но и одним, на выбор. Правда, в моем амплуа слезы — не более чем средство вызвать смех. — Она закашлялась — неожиданно хрипло. — Извините, много курю… Полезно, чтобы играть подростков. — Вот и вся труппа, — повторил Ной Ноевич, обводя рукой свое войско. — Так сказать, «вошедшие в ковчег». Господина Фандорина можете не учитывать. Он кандидат в драмотборщики, но в команду еще не зачислен. Покамест приглядываемся друг к другу. А Эраст Петрович, собственно, уже пригляделся. У него созрели первые предположения и, кажется, обрисовался круг подозреваемых. Про роковую корзину он уже всё выяснил. Заказана в магазине «Флора» запиской с приложением пятидесяти рублей. Записка не сохранилась, да в ней ничего особенного и не было, только указание прицепить карточку «Божественной Э. А.-Л.». Корзину мальчишка-рассыльный доставил в театр, где она до конца спектакля простояла за кулисами, в капельдинерской. Проникнуть туда, в принципе, мог любой человек, даже и снаружи. Однако Эраст Петрович почти не сомневался, что вчерашнюю мерзость подстроил кто-то из присутствующих. Во всяком случае, представлялось целесообразным пока не рассеиваться на другие версии. Климат в труппе знойный, всякого рода антагонизмов в избытке, но на роль «змеелова» годились не все. Трудновато было вообразить за этаким занятием, например, царственную Василису Прокофьевну. И «резонер» при всей своей сардоничности вряд ли стал бы пачкаться — слишком почтенен. Спокойно можно исключить Простакова. Кокетливая субретка Клубникина не стала бы брать своими розовыми пальчиками рептилию. Труффальди-но-Ловчилин? Налить клея в калошу режиссеру — такое хулиганство, пожалуй, в его духе, но для пакости с ядовитой змеей требуется особенная злобность натуры. Здесь чувствуется неистовая, патологическая ненависть. Или столь же испепеляющая зависть. Вот госпожу Лисицкую с ее кривым ртом и ушами летучей мыши запросто можно представить заклинательницей змей. Или господина Мефистова с его нелюбовью к «смазливым мордашкам»… Вдруг Фандорин спохватился, что невольно попался на удочку хитроумного Ноя Ноевича: спутал живых людей с актерскими амплуа. То-то и получилось, что главными подозреваемыми выходят «злодей» со «злодейкой». Нет, первыми впечатлениями руководствоваться нельзя. Лучше пока вообще подождать с выводами. В этом мире все не такое, каким кажется. Всё притворное, ненастоящее. Надо приглядеться лучше. Актеры не похожи на обычных людей. То есть именно что похожи, но на самом деле это, возможно, некий особенный подвид homo sapiens, обладающий своими специфическими повадками. Как раз представилась и возможность продолжить наблюдения — Андрей Гордеевич Шустров начал произносить речь. ОСКВЕРНЕНИЕ СКРИЖАЛЕЙ
Речь предпринимателя была под стать облику — сухая, точная, лишенная каких бы то ни было излишеств. Шустров будто читал наизусть меморандум или реляцию. Это ощущение усугублялось из-за манеры излагать соображения в виде нумерованных тезисов. Эраст Петрович и сам нередко прибегал к похожему методу для большей ясности умопостроений, но в устах покровителя искусств цифирь звучала странновато. — Пункт первый, — начал Андрей Гордеевич, обращаясь к потолку, словно прозревал грядущее. — В двадцатом столетии зрелища перестанут быть полем деятельности антрепренеров, импресарио и прочих одиночек, а развернутся в огромную высокоприбыльную индустрию. Кто из промышленников раньше это поймет и умнее развернется, тот и займет господствующие позиции. Пункт второй. Именно с этой целью я и мой компаньон мсье Симон год назад создали «Театрально-кинематографическую компанию», где я взял на себя театральное направление, а он кинематографическое. На нынешнем этапе мсье Симон подыскивает киносъемщиков и договаривается с прокатчиками, закупает аппаратуру, строит кинофабрику, арендует электротеатры. Он учился всему этому в Париже на студии «Гомон». Я же тем временем помогаю вашему театру прославиться на всю Россию. Пункт третий. Я решил сделать ставку на господина Штерна, потому что вижу в нем огромный потенциал, идеально подходящий для моего проекта. Теория Ноя Ноевича о соединении искусства с сенсационностью представляется мне стопроцентно верной. Пункт четвертый. О том, как мы с компаньоном намерены соединить сферы нашей деятельности, я расскажу вам во время нашей следующей встречи. Кое-что наверняка покажется вам непривычным, даже тревожным. Поэтому сначала мне бы хотелось заслужить ваше доверие. Вы должны понять, что мои и ваши интересы полностью совпадают. И это приводит нас к пятому, заключительному пункту. Итак, пункт пятый. Я заявляю со всей ответственностью, что поддержка «Ноева ковчега» для меня не прихоть и не временный каприз. Возможно, кому-то из вас показалось странным, что я обеспечиваю театр всем необходимым, при этом не покушаясь на вашу выручку — кажется, весьма значительную… — Благодетель вы наш! — воскликнул Ной Ноевич. — Нигде в Европе актеры не получают такого жалованья, как в нашем, то есть вашем театре! Зашумели и остальные. Шустров терпеливо дождался, пока благодарственный гул утихнет, и продолжил фразу там, где она была прервана: — …весьма значительную и, полагаю, еще не достигшую своего максимума. Обещаю всем вам, дамы и господа, что, связав свою судьбу с «Театрально-кинематографической компанией», вы навсегда забудете о финансовых трудностях, с которыми приходится сталкиваться обычным актерам… — Снова оживление, прочувствованные возгласы, даже рукоплескания. — …А артисты первого плана сделаются весьма и весьма состоятельны. — Ведите в бой, отец-командир! — вскричал премьер Смарагдов. — А уж мы за вами в огонь и в воду! — …И в доказательство серьезности моих намерений — это, собственно, и есть пятый пункт — я хочу предпринять шаг, который навсегда обеспечит экономическую независимость «Ноева ковчега». Сегодня я сделал в банке вклад на триста тысяч, процент с которого будет поступать в вашу пользу. Взять эти деньги обратно мне или моим наследникам невозможно. Если вы решите со мной расстаться, капитал все равно останется в коллективном владении театра. Если я умру, ваша самостоятельность все равно будет гарантирована. У меня всё. Благодарю… Щедрого жертвователя приветствовали стоя, с криками, слезами и лобзаниями, которые Шустров невозмутимо снес, вежливо благодаря каждого лобызающего.

— Тише, тише! — надрывался Штерн. — У меня предложение! Слушайте же! К нему повернулись. Срывающимся от чувств голосом режиссер объявил: — Предлагаю сделать запись в «Скрижалях»! Это исторический день, дамы и господа! Давайте так и запишем: сегодня «Ноев ковчег» обрел истинную независимость. — И будем отмечать каждое шестое сентября как День независимости! — подхватила Альтаирская. — Ура! Браво! — закричали все. А Шустров задал вопрос, возникший и у Фандорина: — Что это — «Скрижали»? — Так называется наша священная книга, молитвенник театрального искусства, — объяснил Штерн. — Настоящий театр немыслим без традиций, без ритуала. Например, после спектакля мы непременно выпиваем по бокалу шампанского и я провожу разбор игры каждого артиста. В день нашего дебюта мы решили, что будем регистрировать все важные события, свершения, триумфы и открытия в особом альбоме под названием «Скрижали». Каждый из актеров имеет право записать там свои озарения и высокие мысли, касающиеся ремесла. О, там очень много ценного! Когда-нибудь наши «Скрижали» будут изданы в виде книги, ее переведут на множество языков! Вася, дай-ка. Простаков подошел к мраморному постаменту, на котором лежал фолиант в роскошном бархатном переплете. Эраст Петрович полагал, что это реквизит из какого-нибудь спектакля, а это, оказывается, был молитвенник театрального искусства. — Вот, — Штерн стал перелистывать страницы, исписанные разными почерками. — В основном, конечно, пишу я. Излагаю свои заметки по теории театра, заношу впечатления от сыгранного спектакля. Но немало ценного вписывают и другие. Послушайте-ка, это Ипполит Смарагдов: «Спектакль подобен акту страстной любви, где ты — мужчина, а публика — женщина, которую надобно довести до экстаза. Не сумел — она останется неудовлетворенной и сбежит к более пылкому любовнику. Но коли преуспел, она пойдет за тобою на край света». Вот слова настоящего героя-любовника! Потому и поклонницы вопят под окнами. Красавец Ипполит картинно поклонился. — Здесь и остроумное встречается, — перелистнул еще несколько страниц Штерн. — Смотрите, Костя Ловчилин нарисовал. Сверху надпись: «Вошли в ковчег Ной с чадами, а также звери земныя по роду, и скоты по роду, и гад движущийся на земли, и птица пернатая, мужеский пол и женский». И мы все изображены очень похоже. Вот я с моими «чадами», Элизой и Ипполитом, вот гранд-дама с Разумовским в виде благородных зверей, вот «скоты» — сам Костя с Серафимой Клубникиной, вот наши злодей и злодейка пресмыкаются по земле, вот «птицы пернатые» — филин Вася и колибри Зоенька, а Девяткин изображен в качестве якоря! Шустров серьезно рассматривал шарж. — Еще есть перспективный жанр кинематографии — анимированный рисунок, — сказал он. — Это картинки, только движущиеся. Тоже надо будет заняться. — Эй, кто-нибудь, дайте ручку и чернильницу! — велел Ной Ноевич и начал выводить на пустом листе торжественные письмена. Все сгрудились, заглядывая ему через плечо. Подошел и Фандорин. Сверху на странице было типографским способом напечатано: 6 (19) СЕНТЯБРЯ 1911 ГОДА, ПОНЕДЕЛЬНИК. «День независимости, обретенной благодаря феноменальному великодушию благороднейшего АТ.Шустрова: праздновать ежегодно!» — написал Штерн, и все троекратно прокричали «Виват!». Хотели снова накинуться на благодетеля с поцелуями и рукопожатиями, но тот проворно отступил к двери. — Должен быть в пять часов на заседании городской думы. Важный вопрос — пускать ли гимназистов на вечерние сеансы в электротеатры. Это почти треть потенциальной аудитории. Откланиваюсь. После его ухода актеры еще какое-то время повосторгались, потом Штерн приказан рассаживаться. Все разом умолкли. Предстояло важное: объявление новой пьесы и, самое главное, распределение ролей. Лица сделались напряженными; с одинаковым выражением, в котором смешивазись подозрительность и надежда, артисты смотрели на руководителя. Спокойнее других выглядели Смарагдов и Альтаирская-Луантэн, им можно было не бояться невыигрышных ролей. Но все же и они, кажется, волновались. Вернувшись на свой наблюдательный пункт, Фандорин тоже изготовился, вспомнил слова Ноя Ноевича, что именно в этот момент привычные к притворству лицедеи раскрывают свое истинное «я». Возможно, картина сейчас прояснится. Известие о том, что труппе предстоит играть «Вишневый сад», энтузиазма не вызвало и обстановки не разрядило. — А поновее ничего не сыскаюсь? — спросил Смарагдов, и некоторые кивнули. — На что нам драмотборщик, — показат премьер на Фандорина, — коли мы опять берем Чехова? Поживей бы что-нибудь. Позрелищней. — Где я вам возьму новую пьесу, чтобы там были хорошие роли для каждого? — засердился Ной Ноевич. — А «Сад» отлично раскладывается на двенадцать партий. Сюжет публике известен, это правда. Но мы возьмем революционностью трактовки. О чем, по-вашему, пьеса? Все задумазись. — О торжестве грубого материализма над бесполезностью красоты? — предположила Альтаирская. Эраст Петрович подумал: «Она умна, это замечательно». Но Штерн не согласился. — Нет. Элизочка. Эта пьеса о комизме интеллигентского бессилия и еще о неотвратимости смерти. Это очень страшная пьеса с безысходным концом, и притом очень злая. А комедией она называется, потому что судьба безжалостно потешается над человеками. Здесь у Чехова, как обычно, все намеками, да полутонами. Мы же доведем каждую недомолвку до полной ясности. Это будет античеховская постановка Чехова! — Режиссер все больше воодушевлялся. — У Чехова в этой драме нет конфликта, потому что во время написания автор был тяжело болен, у него уже не оставалось сил бороться — ни со Злом, ни со Смертью. Мы с вами воссоздадим Зло во всеоружии. Оно станет главным двигателем действия. При чеховской многослойности образов и смыслов подобная интерпретация вполне позволительна. Мы придадим психологической размытости персонажей определенность, как бы наведем на фокус, обострим, разделим на традиционные амплуа. В этом и будет состоять новаторство! — Гениально! — вскричал Мефистов. — Браво, учитель! А кто главный носитель Зла? Лопахин? Погубитель вишневого сада? — Ишь чего захотел, — усмехнулся Смарагдов. — Лопахина ему подавай. — Носитель Зла — конторщик Епиходов, — ответил «злодею» режиссер, и Мефистов сник. — Этот жалкий человечек — олицетворение пошлого, мелкого зла, с которым кажтый из наших зрителей встречается в жизни гораздо чаше, чем со Злом демонического размаха. Но дело не только в этом. Епиходов еще и ходячий Знак Беды — притом с револьвером в кармане. Его прозвище «22 несчастья». Когда несчастий так много, это страшно. Епиходов — вестник разрушения и смерти, бессмысленной и беспощадной. Недаром персонажи повторяют зловещим рефреном: «Епиходов идет, Епиходов идет». И вот он бродит где-то за сиеной, перебирая струны своей «мандолины». У меня она будет исполнять похоронный марш. — А кто из женщин несет Зло? — спросила Лис и икая. Штерн усмехнулся. — Нипочем не догадаетесь. Варя, приемная дочь Раневской. — Как ло? Она такая славная! — поразился Простаков. — Вы плохо читали пьесу, Васенька. Варя — ханжа. Собирается уйти на богомолье или в монастырь, а сама кормит божьих странников одним горохом. Ее обычно играют скромной, самоотверженной труженицей, а какая она к черту труженица? Экономка, приведшая имение с роскошным вишневым садом к разорению и гибели. Единственная светлая нота в пьесе — это робкая попытка сближения Пети с Аней, но Варя не дает этому ростку расцвести, она все время начеку. Потому что в царстве Зла и Смерти нет места живой Любви. — Это очень глубоко. Очень, — задумчиво молвила Л исицкая. По ее некрасивому лицу прошла быстрая смена гримас: фальшиво-благочестивая, приторно-сладкая, завистливая, злая. — А кто будет воплощать собою Добро? Петя Трофимов? — будто подсказал режиссеру Простаков. — Я думал об этом. Болтливое, прекраснодушное добро перед лицом всепобеждающего зла? Слишком беспросветно. Трофимов, конечно, достается вам, Вася. Играйте его в классической манере «милый простак». А миссию борьбы со Злом возьмет на себя победительный Лопахин. — Ной Ноевич сделал жест в сторону премьера, и тот, поразив Эраста Петровича, показал язык посрамленному Мефистову. — Чтобы вывести Россию из ее убогого, нищего состояния, нужно вырубить вишневые сады, которые больше не дают урожая. Нужно работать на земле, заселить ее активными, современными людьми. Советую вам, Ипполит, играть нашего благодетеля Андрея Гордеевича Шустрова, фотографически. Но — и это очень важный нюанс — Добро, в силу своего великодушия, слепо. Поэтому в конце Лопахин берет на службу Епиходова. Когда публика услышит это известие, она должна содрогнуться от зловещего предчувствия. Зловещее предчувствие — вообше ключ к трактовке спектакля. Всё скоро кончится, и закончится скверно — это настроение как пьесы, так и нашей эпохи. — Я, конечно, Раневская? — сладким голосом спросила гранд-дама Регинина. — Давно мечтала об этой роли! — Кто же еще? Стареющая, но все еще красивая женщина, живущая любовью. — А я? — не выдержала Элиза. — Не Аня же? Она совсем девочка. Штерн нагнулся над ней, заворковал: — Что вы, девочку не сыграете? Аня — это Свет и Радость. Вы тоже. — Помилуйте, рецензенты будут смеяться! Скажут, Альтаирская начала молодиться! — Вы их очаруете. Я велю вам сшить платье всё в зеркальной крошке, от него так и будут рассыпаться солнечные зайчики. Каждый ваш выход будет праздником! Элиза спорить перестала, но вздохнула. — Кто там у нас остался? — Режиссер заглянул в книжку. — Господин Разумовский сыграет Гаева. Стародум, славные, но отжившие ценности, то-сё, тут всё ясно… — Что ясно? Почему ясно? — закипятился «резонер». — Вы мне дайте рисунок! Развитие характера! — Какое еще развитие? Скоро вспыхнет всемирный пожар, и сгорит в нем ваш Гаев вместе со своим многоуважаемым шкафом. Вечно вы мудрите, Лев Спиридонович… Так, дальше. — Штерн ткнул пальцем в маленькую Дурову. — Зою подстарим, сыграете фокусницу Шарлотту. Ловчилину достается лакей Яша. Клубникиной — горничная Дуняша. Себе я беру Фирса. Ну а вы, Девяткин, — Симеонов-Пищик и всякая мелочь вроде Прохожего или Начальника станции… — Симеонов-Пищик? — трагическим шепотом повторил ассистент. — Позвольте, Ной Ноевич, но вы обещали дать мне большую роль! Вам же понравилось, как я исполнил Соленого в «Трех сестрах»! Я рассчитывал на Лопахина! — Сами вы «многоуважаемый шкаф», — довольно громко пробурчал Разумовский, очевидно, тоже недовольный ролью. — Ну и Лопахин! — покрутил пальцем у виска Смарагдов, потешаясь над ассистентом. Крошка травести заступилась за Девяткина: — А что? И очень было бы интересно! Какой из вас Лопахин, Ипполит Аркадьевич? Вы на мужичьего сына непохожи. Красавец от нее отмахнулся, как от мошки. — Когда вы мне дали исполнить Соленого, я подумал, что вы в меня поверили! — всё шептал Девяткин, хватая режиссера за рукав. — Какого-то Пищика после Соленого?! — Да отстаньте вы! — разозлился Штерн. — Соленого вы не сыграли, а именно что «исполнили». Потому что я дал вам сыграть самого себя. Лермонтов для бедных! — Ну, это вы не смеете! — Бледная физиономия помощника покрылась пунцовыми пятнами. — Это, знаете, последняя капля! Я ведь немногого прошу, не в режиссеры набиваюсь! — Ха-ха, — раздельно произнес Ной Ноевич, глядя на него сверху вниз. — Еще не хватало. У вас, стало быть, режиссерские амбиции? Когда-нибудь поразите всех. Такой поставите спектакль, что все ахнут. Сказано это было с нескрываемой насмешкой, словно он провоцировал ассистента на скандал. Фандорин поморщился, ожидая крика, истерики или другого какого-нибудь безобразия. Но Штерн оказался превосходным психологом. От прямого афронта Девяткин поник, съежился, опустил голову. — Я что же? — тихо сказал он. — Я ничего. Пусть будет по вашему слову, учитель… — Ну то-то. Коллеги, разбирайте текст. Мои ремарки, как обычно, красным карандашом. Недовольные умолкли. Все взяли из лежащей на столе стопки по экземпляру, причем Эраст Петрович обратил внимание, что папки разноцветные. Очевидно, каждый цвет был закреплен за определенным амплуа — еще одна традиция? Премьер без колебаний взял красную папку. Примадонна — розовую, а Регининой передала голубую со словами: «Это ваша, Василиса Прокофьевна». Резонер мрачно выдернул темно-синюю, Мефистов — черную, и так далее. В это время заглянул служитель, сказал, что «господина режиссера» просят к телефону. Очевидно, Штерн ждал этого звонка. — Перерыв на полчаса, — сказал он. — Потом начинаем работать. Пока прошу каждого перелистать свою роль и освежить ее в памяти. Стоило руководителю выйти, как табу на волновавшую всех тему перестало действовать. Все заговорили о вчерашнем событии, что устраивало Фандорина как нельзя лучше. Он сидел, стараясь не привлекать внимания. Смотрел, слушал, надеялся, что виновный как-то себя выдаст. Поначалу преобладали эмоции: сочувствие «бедной Элизочке», восхищение подвигом Девяткина. Тот по просьбе мужчин разбинтовал руку и предъявил укус. — Пустяки, — мужественно говорил помощник режиссера, шевеля пальцами. — Уже не больно. Но мирная фаза обшей беседы длилась недолго. Бикфордов шнур запалила «интриганка». — Как вы все-таки ловко успели отдернуть руку, Элизочка, — заметила Лисицкая с неприятной улыбкой. — Я бы окоченела от страха и была бы ужалена. А вы будто знали, что в цветах прячется гадина. Альтаирская качнулась, как от пощечины. — На что вы намекаете? — воскликнул Простаков. — Уже не хотите ли вы сказать, что Элиза сама всё подстроила? — Мне это в голову не приходило! — «Интриганка» всплеснула руками. — Но раз уж вы сами об этом заговорили… Жажда сенсационной славы толкает людей и на более отчаянные поступки. — Не слушай ее, Элиза! — Простаков взял потрясенную Альтаирскую за руку. — А вы, Ксантиппа Петровна, нарочно это устраиваете. Потому что знаете — все подозревают вас. Лисицкая громко рассмеялась. — Ну разумеется, кого ж еще? А я, между прочим, обратила внимание на одну маленькую, но любопытную детальку. Обыкновенно вы, верный рыцарь, на поклонах подхватываете самую красивую корзину и лично подаете ее даме своего сердца. А в этот раз не стати. Почему? Простаков не нашелся, что ответить, и от возмущения лишь затряс головой. Господин Мефистов, почмокав, мрачно произнес: — Я бы не удивился ничему. То есть никому. — И поочередно обвел взглядом каждого. Всякий, на кого устремлялся подозрительный взгляд «злодея», реагировал по-разному. Кто-то протестовал, кто-то бранился. Дурова высунула язык. Регинина, презрительно усмехнувшись, удалилась в коридор. Разумовский зевнул. — Ну вас к черту. Пойти что ли покурить, роль посмотреть… Настоящего скандала все-таки не вышло. Через минуту-другую все разбрелись, оставив пару «злодеев» в некотором разочаровании. — Вы, Антоша, могли бы выкинуть такую штуку, просто чтобы раздразнить гусей, — будто по инерции сказала Лисицкая партнеру. — Признайтесь, ваша работа? — Бросьте, — вяло ответил Мефистов. — Что нам друг дружку дразнить? Сяду в зале, примерю Епиходова. Тоже еще роль… «Интриганка», кажется, была недовольна. Поскольку в артистическом фойе никого кроме Фандорина не осталось, попробовала свои когти на новеньком. — Загадочный незнакомец, — вкрадчиво начала она. — Вы появились так внезапно. Прямо как вчерашняя корзина, которую неизвестно кто прислал. — Простите, сударыня, не имею времени, — холодно ответил Эраст Петрович и поднялся. Сначала заглянул в зрительный зал. Там, разместившись по одиночке, на отдалении друг от друга, сидели и смотрели в свои разномастные папки несколько актеров. Элизы среди них не было. Он направился в коридор. Прошел мимо Ловчилина, пристроившегося на подоконнике, мимо дымившего трубкой Разумовского, мимо хмурого Девяткина, уставившегося в одну-единственную страничку текста. Альтаирскую-Луантэн он обнаружил на лестнице. Она стояла у окна, спиной к Эрасту Петровичу, обхватив себя за плечи. Текст в розовом переплете лежал на перилах. «Хватит валять дурака, — сказал себе Фандорин. — Мне нравится эта женщина. Во всяком случае, она мне интересна, она меня интригует. А стало быть, надо с нею заговорить». Он посмотрелся в зеркало, кстати оказавшееся неподалеку, и остался удовлетворен тем, как выглядит. Не бывало случая, чтобы дамы оставались равнодушны к его внешности — особенно, если он желал понравиться. Подойдя, Эраст Петрович деликатно откашлялся и, когда она обернулась, мягко сказал: — Вы напрасно расстроились. Лишь доставили этой злоязыкой даме удовольствие. — Да как она посмела?! — жалобно воскликнула Элиза. — Предположить, будто я сама… Она брезгливо передернулась. Остро ощущая, как близко она стоит, всего лишь на расстоянии вытянутой руки, Фандорин с тонкой улыбкой продолжил: — Женщины склада госпожи Лисицкой не способны существовать вне атмосферы скандала. Нельзя позволять, чтобы она затягивала вас в свои игры. Этот психологический тип личности называется «скорпион». В сущности, несчастные, очень одинокие люди… Начало разговора получилось удачное. Во-первых, удалось ни разу не заикнуться. Во-вторых, собеседница теперь должна была спросить про психологические типы, и тут уж Фандорин сумел бы ее собою заинтересовать. — А, пожалуй, верно! — удивилась Альтаирская-Луантэн. — В Ксантиппе действительно есть какой-то внутренний надлом. Делает пакости, но в глазах что-то жалкое, просяшее. Вы наблюдательный человек, господин… — Она запнулась. — Фандорин, — напомнил он. — Да-да, господин Фандорин. Штерн сказал, что вы знаток современной литературы, но вы ведь не просто драмотборщик? В вас чувствуется какая-то… особость. — Она не сразу подобрала слово, но оно Эрасту Петровичу пришлось по вкусу. Еще больше понравилось ему, что на ее лице появилась обворожительная улыбка. — Вы так хорошо разбираетесь в людях. Должно быть, вы пишете театральные рецензии? Кто вы? Немного подумав, он ответил: — Я… путешественник. А рецензий, увы, не пишу. Улыбка угасла, равно как и интерес, читавшийся в волшебно неуловимом взоре. — Путешествовать, говорят, увлекательно. Ноя никогда не понимала удовольствия вечно перемешаться с места на место. Ее взгляд, красноречиво брошенный на розовую папку, мог означать только одно: оставьте меня в покое, разговор окончен. Но Эраст Петрович не хотел уходить. Нужно было сказать ей нечто такое, отчего она поняла бы, что их встреча не случайна, что тут какая-то непонятная, но в то же время несомненная интрига судьбы. — Элиза… Простите, не знаю вашего отчества… — Я не признаю отчеств. — Она взяла текст в руки. — От них тянет мертвечиной и азиатчиной. Будто ты — собственность твоего родителя. А я принадлежу только себе. Можете звать меня просто Элизой. Или, если угодно, Елизаветой. Тон был безразличен, даже холодноват, но Фандорин пришел в еще большее волнение. — Вот именно, вы — Елизавета, Лиза. А я Эраст! П-понимаете? — воскликнул он с горячностью, которой в себе и не подозревал, да еше и заикаясь сверх всякой меры. — Я увидел в этом п-перст с-судьбы… Этот ваш жесте п-протянутой рукой… И еще с-сентябрь… Он запнулся, видя: нет, ничего она не понимает. Никакого ответного движения души, никакой реакции кроме легкого недоумения. Удивляться было нечему. Что ей Эраст, что ей сентябрь, что ей белая рука? Он стиснул зубы. Не хватало еще, чтобы Лиза, то есть Элиза, сочла его безумием или экзальтированным поклонником. Вокруг нее и без Фандорина более чем довольно и тех, и других. — Я хочу сказать, что меня поразила ваша игра во вчерашнем спектакле, — сдержаннее сказал он, всё пытаясь поймать ее уклоняющийся взгляд, задержать его. — Никогда не испытывал ничего подобного. Ну и, конечно, потрясло совпадение имен. Меня ведь тоже з-зовут Эрастом. Петровичем… — А да, в самом деле. Эраст и Лиза, — снова улыбнулась она, но рассеянно, безо всякого тепла. — Что там за вопли? Опять скандалят… Он с досадой обернулся. Наверху действительно кто-то кричал. Фандорин узнал голос режиссера. «Кощунство..! Святотатство!..Кто это сдел&ч?» — доносилось со стороны артистического фойе. — Нужно идти. Ной Ноевич вернулся и, кажется, на что-то сердится. Опустив голову, Эраст Петрович шел за Элизой, кляня себя за то, что провалил первый разговор. С ранней юности он не вел себя с женщинами так по-идиотски. — Я хочу знать, кто это сделал! У входа в кресельную (иногда актерское фойе называли и так) стоял разъяренный Ной Ноевич с раскрытыми «Скрижалями» в руках. — Кто осмелился?! Фандорин заглянул в раскрытую книгу. Прямо под торжественной записью о Дне независимости кто-то фиолетовым химическим карандашом вкривь и вкось, крупно, накарябал: «До бенефиса восемь единиц. Одумайтесь!» Все подходили, смотрели, недоумевали. — Театр — это храм! Служение актера — высокая миссия! Без благоговения и сакральных предметов нам нельзя! — чуть не плакал Штерн. — Тот, кто это сделал, хотел оскорбить меня, нас всех, наше искусство! Что это за каляки? Что они означают? Сколько раз повторять: у меня в театре нет и не будет бенефисов. Это во-первых. А во-вторых, надругаться над нашей святыней — все равно что нагадить в церкви! На такое способен только вандал! Кто-то слушал его с сочувствием, кто-то разделял негодование, но слышались и смешки. Во всяком случае, автор дурацкой надписи не объявлялся. — Уйдите все, — слабым голосом сказал режиссер. — Никого не хочу видеть… Работать сегодня невозможно. Завтра, завтра… Пользуясь тем, что все смотрят на страдальца, Фандорин не сводил глаз с Элизы. Она казалась ему недостижимо далекой, воистину звезда Аль-Таир, и эта мысль отчего-то была мучительна. Он понимал: с этой болью нужно что-то делать, сама собой она не утихнет. НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ
Вторую ночь подряд Эраст Петрович не мог уснуть. Притом мысли его были заняты отнюдь не дедукцией по поводу змеи в цветочной корзине. Внутреннее состояние гармонического человека миновало несколько последовательных стадий. На первой Фандорину вдруг открылась простая истина, которую менее умный и сложный индивидуум осознал бы гораздо раньше. (Правда, нужно сделать скидку на то, что эту страницу жизни Эраст Петрович считал давно прочитанной и навсегда закрытой). «Я влюблен», — внезапно сказал себе 55-летний мужчина, много всякого повидавший и переживший на своем веку. Удивился до невероятности, даже рассмеялся в тишине пустой комнаты. Увы, сомненья нет — влюблен я? Влюблен, как мальчик, полон страсти юной? Да полно! Какая постыдная нелепость, даже пошлость! Перегореть сердцем к 22-летнему возрасту; потом еще треть века жить над едва тлеющим пеплом, бестрепетно снося разящие удары судьбы и сохраняя холодность рассудка при самых роковых обстоятельствах; достичь душевного покоя и ясности в нестаром еще возрасте — и вновь впасть в ребячество, оказаться в смешном положении влюбленного?! И, главное, в кого! В актрису, то есть существо заведомо неестественное, изломанное, фальшивое, привыкшее кружить головы и разбивать сердца! Но это только половина проблемы. Вторая еще унизительней. Влюбленность была неразделенной, без взаимности и даже интереса с противоположной стороны. За минувшие годы столько женщин — прекрасных и умных, блестящих и глубоких, инфернальных и ангелоподобных — дарили ему обожание и страсть, он же в лучшем случае позволял им себя любить, почти никогда не теряя хладнокровия. А эта заявляет: «Я принадлежу только себе». И смотрит, будто на надоедливую муху! Так Эраст Петрович, незаметно для себя, перешел на следующую стадию — возмущения. Да принадлежите вы кому хотите, сударыня, мне что за дело! Влюбился? Взбредет же в голову этакая блажь! Снова рассмеявшись (теперь уже не удивленно, а сердито), он приказал себе немедленно выкинуть примадонну с трескучим псевдонимом из головы. Пусть они там в своем театрике сами разбираются, кто кому подкладывает свинью — то есть гадюку. Бывать в их сумасшедшем доме опасно для психики рационального человека. Воля у Эраста Петровича была стальная. Решил — как отрезал. Сделал вечернюю гимнастику, даже поужинал. Перед сном почитал Марка Аврелия, выключил свет. И в темноте наваждение навалилось с новой силой. Вдруг возникло ее лицо со смотрящими сквозь тебя глазами, послышался нежный, глубокий голос. И прогонять «принцессу Грезу» не было ни сил, ни, что хуже всего, желания. До рассвета Фандорин проворочался, время от времени пытаясь отделаться от манящего видения. Но был вынужден признать, что порция яда слишком сильна, организм отравлен безвозвратно. Он оделся, взял нефритовые четки и занялся проблемой всерьез, по-настоящему. Так началась третья стадия — осмысления. Я влюблен, отрицать абсурдно. Это раз. (Щелкнул зеленый шарик.) Видимо, без этой женщины жизнь будет мне не в радость. Это два. (Снова щелчок.) Значит, нужно сделать так, чтобы она была моей — только и всего. Это три. Вот и вся логическая цепочка. Сразу сделалось легче. У человека действия, к каковым относился Фандорин, ясно обозначенная цель вызывает прилив энергии. Прежде всего пришлось внести поправки в действующую конституцию, которая никак не предусматривала такого неожиданного кульбита на гармоничном пути к старости. Идет себе человек по полю, перейти которое — жизнь прожить, спокойно смотрит на плавную линию горизонта, и тот вроде бы постепенно проясняется, становится ближе. Дорога приятна, шаг размерен, небо над головой клубится спокойными тучами — ни солнца, ни дождя. И вдруг удар грома, разряд молнии, и неистовая электрическая стрела пронзает все существо, тьма обрушивается на землю, не видно ни дороги, ни горизонта, куда идти непонятно, а главное — не понятно, надо ли вообще куда-то идти. Человек предполагает, а Бог располагает. И тело, и душу пронизывала электрическая вибрация. Фандорин чувствовал себя черепахой, внезапно оставшейся без панциря. И страшно, и стыдно, но зато не выразимое словами ощущение, будто., будто дышит вся кожа. И еще: словно дремал и вдруг проснулся. Можно и мелодраматичней: восстал из мертвых. Кажется, я похоронил себя раньше времени, думал Эраст Петрович, все быстрее перебирая нефритовые шарики. Пока продолжается жизнь, в ней возможны любые неожиданности — как счастливые, так и катастрофические. Причем главные из этих сюрпризов совмещают в себе и первое, и второе. Фандорин сидел в кресле, глядя на медленно наполняющийся светом оконный проем, и растерянно прислушивался к происходящим внутри переменам. Таким и застал его Маса, осторожно заглянувший в дверь в восьмом часу утра. — Что случилось, господин? С позавчерашнего дня вы на себя не похожи. Я вам не докучал, но это меня тревожит. Я никогда вас таким не видел. Подумав, японец поправился: — Давно таким не видел. У вас стало молодое лицо. Как тридцать три года назад. Вы, наверно, влюбились? Когда же Фандорин с изумлением воззрился на ясновидца, Маса шлепнул себя по блестящей макушке: — Так и есть! О, как это тревожно! Нужно принимать меры. Это мой единственный друг, который знает меня лучше, чем я сам себя знаю, подумал Эраст Петрович. Таиться от него бессмысленно, а кроме того Маса отлично разбирается в женской психологии. Вот кто может помочь! — Скажи, как завоевать любовь актрисы? — без обиняков спросил Фандорин о самом главном, по-русски. — Настоясюю ири понароську? — деловито осведомился слуга. — То есть? Что значит «любовь понарошку»? О материях чувствительных Маса предпочитал говорить на своем родном языке, считая его более утонченным. — Актриса — все равно что гейша или куртизанка высшего ранга, — деловито принялся объяснять он. — У такой женщины любовь бывает двух видов. Легче добиться любви сыгранной — они отлично умеют ее изображать. Нормальному мужчине ничего больше и не нужно. Во имя такой любви красавица может пойти на некоторые жертвы. Например, в доказательство страсти остричь себе волосы. Иногда даже отрезать кусочек мизинца. Но не больше. Однако иногда, довольно редко, сердце подобной женщины пронзается настоящим чувством — таким, ради которого она может согласиться и на двойное самоубийство. — Поди ты к бесу со своей японской экзотикой! — Эраст Петрович разозлился. — Я спрашиваю не про гейшу, а про актрису, нормальную европейскую актрису. Маса задумался. — У меня были актрисы. Три. Нет, четыре — я забыл мулатку из Нового Орлеана, которая танцевала на столе… Пожалуй, вы правы, господин. Они отличаются от гейш. Завоевать их любовь гораздо легче. Только трудно понять, сыгранная она или настоящая. — Ничего, как-нибудь разберусь, — нетерпеливо сказал Фандорин. — Ты сказал, легче? Да еще гораздо? — Было бы совсем легко, если б вы были режиссер, сочинитель пьес или писали в газетах статьи про театр. Актрисы признают высшими существами только три эти типа мужчин. Вспомнив, какая улыбка озарила лицо Элизы, когда она приняла его за театрального рецензента, Фандорин так и впился глазами в своего консультанта. — Ну? Говори, говори! Маса рассудительно продолжал: — Режиссером быть вы не можете, для этого нужно иметь свой театр. Рецензии писать, конечно, нетрудно, но пройдет много времени, прежде чем вы сделаете себе имя. Напишите хорошую пьесу, где у актрисы будет красивая роль. Это самое простое. Я занимался сочинительством. Дело нетрудное, даже приятное. Вот вам мой совет, господин. — Ты издеваешься?! Я не умею писать пьесы! — Чтобы доказать женщине свою любовь, приходится совершать подвиги. Для такого человека, как вы, преодолеть сто препятствий или победить сто злодеев — не подвиг. А вот взять и ради любимой сочинить чудесную пьесу — это было бы настоящим доказательством любви. Эраст Петрович велел специалисту катиться к дьяволу и вновь остался один. Но идея, вначале показавшаяся дурацкой, все вертелась в голове и постепенно увлекла Фандорина. Любимой женщине надо дарить то, что доставит ей наибольшую радость. Элиза — актриса. Ее жизнь — театр, ее главная радость — хорошая роль. Ах, если бы в самом деле было возможно преподнести ей пьесу, в которой Элиза захотела бы сыграть! Тогда бы она перестала смотреть с вежливым безразличием. Маса дал очень неглупый совет. Жаль только, неосуществимый… Неосуществимый? Эраст Петрович напомнил себе, что много раз в жизни сталкивался с задачами, которые поначалу представлялись неразрешимыми. Однако решение всегда отыскивалось. Воля, ум и знание способны одолеть любую преграду. За волей и умом дело не станет. Со знанием хуже… Осведомленность Фандорина в сфере драматургии была минимальной. Ему предстояло совершить деяние, подобное подвигу Геракла. Но можно было по крайней мере попытаться — ради такой цели. Ясно одно. Не видеть Элизу невыносимо, но показываться ей на глаза в качестве человека из толпы, одного из многих, больше нельзя. Один раз уже получил по носу, довольно. Если являться на новую встречу, то во всеоружии. Так бывший гармонический человек перешел в завершающую стадию — непоколебимой решимости. К исполнению задуманного Эраст Петрович приступил со всей обстоятельностью. Сначала обложился книгами: сборниками пьес, исследованиями драматического искусства, трактатами по стилистике и поэтике. Навыки быстрого чтения и концентрация внимания вкупе с лихорадочным возбуждением позволили будущему драматургу одолеть за четверо суток несколько тысяч страниц. Пятый день Фандорин провел в абсолютном бездействии, предаваясь медитации и создавая внутри Пустоту, где должен был зародиться животворящий Импульс, который западные люди называют Вдохновением, а восточные — Самадхи. Какое именно сочинение он будет писать, Эраст Петрович уже знал — нужное направление подсказала беседа со Штерном об «идеальной пьесе». Оставалось дождаться мига, когда слова потекут сами. Ближе к вечеру взыскующий озарения Фандорин начал покачиваться в некоем ритме, его полузакрытые веки широко распахнулись. Он обмакнул стальное перо в чернила и вывел длинное название. Сначала рука двигалась медленно, потом все быстрее и быстрее, едва поспевая за вырвавшимся на свободу потоком слов. Время окутало кабинет колыхающимся, поблескивающим облаком. Глубокой ночью, когда в небе царственно сияла полная луна, Эраст Петрович вдруг замер, почуяв, что волшебная энергия иссякла. Уронив на бумагу кляксу, он выронил ручку. Откинулся на спинку кресла и наконец, впервые за все эти дни, уснул. Лампа осталась гореть. В комнату бесшумно вошел Маса, накрыл господина пледом. Стал читать написанное, вздыхая и скептически покачивая круглой, как луна, головой. До бенефиса семь единиц
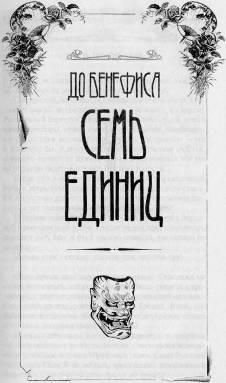
Date: 2015-06-05; view: 485; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |